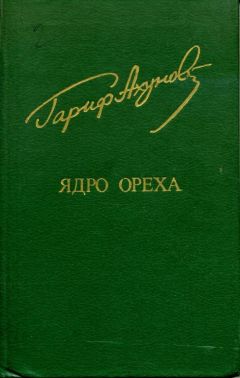Гариф Ахунов - Ядро ореха
С того и подружились.
Дальше — больше, стали хаживать друг к другу в гости.
И говорит однажды Константин:
— Послушай-ка, друг Лутфи, бросай ты, к чертовой матери, эти дурацкие вожжи, давай ко мне на буровую. Научу я тебя подземные секреты разгадывать.
Ну, а Лутфулла в ту пору в самой силе был, всю землю, кажись, перевернуть мог. Запали ему в душу слова друга. «Взаправду возьмешь?» — Возьму!» А люди тогда на нефтяном деле страсть как нужны были. Недельку походил Лутфулла на схожую с небольшим заводцем буровую, приглядывался к разным хитрым машинам, стальным трубам, арканам да к мудреным приборам, привыкал к лязгу-грохоту, потом» ему и говорят: «А полезай-ка, ты, браток, на вышку, проветрись для начала — поглядим, что из тебя выйти может». И сделали из него верхового. Слыхивал до этого Лутфулла, будто уголек-то каменный добывают на невесть какой глубине, в подземных шахтах, и будто нефть эта самая лежит еще глубже, аж под угольными пластами. Оказалось, однако, опускаться за нефтью глубоко под землю — никакого резону, наоборот, стало быть, можно ее поднимать и стоя на земле, на вольном воздухе! Еще краше того оказалось — надобно лезть в самое гнездо ветров, где летом солнце печет, а зимою метель сечет, вот там и начинается добыча «земляного масла».
Работали они с Костей Дорогомиловым вместе, почитай, поболе четверти века. Бурили скважины на Урале, в Баку, в Ставрополе и в Сызрани, да где только они их не бурили — по всей, можно сказать, советской земле. Особливо в годы войны много понадобилось Родине нефти, немало было трудных недель, безвылазно проведенных на буровых — без сна, без отдыха. Тяжелые были годы, что там говорить. Но всегда они были вместе, и когда было одному плохо, другой подставлял братское плечо — крепче огня и мороза была их дружба, крепче стальных арканов связывала она буровиков на вечные времена. И вот — расстаются. Воспротивились куйбышевские нефтяники: знаменитый мастер Дорогомилов нам, мол, и самим дорог, и уж вы на нас обиду не таите — не отпустим его, самим нужен...
...Запыхавшаяся Тауфика-апа торопливо прошла в комнаты и остолбенела: муж ее, Лутфулла, преспокойно сидел себе на мешках с домашней утварью, покуривал, отгоняя рукой синий дымок, видать, не первую уже папиросу. Скрестила на груди руки Тауфика-апа:
— Отец ты наш, дорогой Лутфулла Диярыч! Что же ты расселся ясным соколом, папироски потягиваешь, а? Вещи до сих пор не уложены, насчет машины ну ничего не слыхать, а он расселся — ручки в брючки и во рту цигарка. Взял бы хоть зеркало — перед тобой же висит, ужли не видишь, — да завернул бы его в тряпочку, да сунул бы в ящичек там или коробочку какую — все мне бы помог, одной и не усмотреть, на самом-то деле...
— Не беспокойся ты, мать... Устроится все, только не беспокойся... — тихо сказал Лутфулла-абзый, продолжая сидеть все на том же полосатом, большом, мягком с виду мешке, продолжая сумрачно покуривать все ту же небольшую, но крепкую и сильно вонючую папироску. Голос его был слаб и хрипловат, во всей склонившейся насупленной фигуре проглядывало что-то такое беспомощное, такое родное. Тауфика-апа, поймав себя на том, что последнее время постоянно пилит своего немолодого уже, пожалуй, и уставшего мужа, почувствовала в горле неприятную сухость и заморгала увлажненными глазами. Родные края, это, конечно, понятно... То-то головушку повесил...
Однако из кухни потянуло горелым, и Тауфика-апа настороженно повела носом. Никак, бэлиш[9] подгорает? Не понимает, шайтан, что напоследок Константину Фиунычу дорогому печется! И Тауфика-апа, скидывая на ходу тоненькую шальку, помчалась на кухню.
Спустя короткое время вновь заскрипели половицы, и на пороге, закрывая грузным телом дверной пролет, возник в черной праздничной паре с орденом Ленина и Золотой Звездой на лацкане пиджака, со свертком в руках Константин Феонович Дорогомилов. Редко надевает он высокие награды, а сегодня вот для дорогого друга надел, не сомневаясь...
Мастера, шагнув друг к другу, по-мужски крепко и с чувством поздоровались, чуть дольше обычного задержав в пожатии сильные трудовые руки.
Недолго, словно испытывая тяжесть расставания, Задумчиво помолчали. Константин Феоныч, должно быть, от быстрой ходьбы побагровел; на широком лбу поблескивали капельки пота, раздувались ноздри плоского, крупного даже дли его лица, утиного носа.
— Чуть было не припоздал, извини уж, браток, — проговорил он наконец, все еще задыхаясь. — Понимаешь, какая оказия, полпути проехали, и вдруг — на тебе, засадил Федька, бестолочь, машину, хоть ты бегом беги! — Посапывая, нагнулся, осторожно положил сверток на мешки. — Серафима тут ребятишкам напекла. Сама-то вроде как в магазин пошла — обещалась скоро прийти...
На голоса выглянула из кухни Тауфика-апа, прикрыв рот платком, сморщилась, не сдержала подступившие слезы:
— Константин Фиуныч, родной ты наш, прощаемся... может, и навсегда, ох ты горе мое...
— Ну, ну, мать, что ты! Не в полымя небось. На родину! Вникни ты: в Калимат едем, на родину, к сыну, к Булату... — крикнул негромко Лутфулла-абзый.
Тауфика-апа все шмыгала носом, и он, подойдя к ней, ласково положил на плечо руку, шепнул:
— Гостя-то угощать ведь надо. Как у тебя там? Бэлиш... поспел... что ли?
Тауфика-апа сразу пришла в себя и, улыбнувшись как ни в чем не бывало «Фиунычу», удалилась на кухню. Через минуту она вернулась обратно, неся на разделочной доске сковороду с бэлишом, поставила ее на стол и ловко, катая в лад во рту слова «бисмиллы»[10], срезала ножом румяную «крышку»-корочку. Была она родом откуда-то из приуральских татарских деревень и до стряпни большая мастерица — под «крышкою» бэлиша открылась аппетитнейшая начинка, повалил вкусный парок, и мужиков прошибла нечаянная слюна.
— Пожалста, Константин Фиуныч, милости просим, кушайте, пока горяченький! Проголодались, верно, вот оно хорошо и будет.
— Может, подождем до Серафимы Ивановны? — сказал Лутфулла-абзый, поглядывая на друга. Дорогомилов смущенно пожал плечами: «ну, женки, тянет их по магазинам в самый неподходящий момент, что ты будешь делать».
— Да вы не думайте, ей-богу, и не беспокойтесь даже: нам с Серафимою свой бэлиш в плите доходит, на жару, — засмеялась Тауфика-апа с ласковым радушием. — Посидите вдвоем, вам без баб-то свободнее будет. Поговорите на свободе, поговорите. А ты, отец, потчуй гостя, не зевай. Соловей, да еще под семь-то пудов, баснями сыт не будет — угощай ты его бэлишом, угощай!
Тауфика-апа ушла на кухню, потому как понимала: хочется друзьям перед долгой разлукою посидеть с глазу на глаз, потолковать, да, наверное, и выпить на прощание — теперь ведь без «горячего» редко собираются. Ни к чему, конечно, все это — ну, да уж посидят напоследок без опасения.
Дорогомилов, проводя Тауфику глазами, обернулся к Лутфулле и, ухарски подмигнув, вытянул из кармана бутылку «старки». Лутфулла-абзый поискал среди вещей, нашел пару пластмассовых кружек — налили. Первую подняли за здоровье полувековой и вечной дружбы. Лутфулла-абзый, выпив, сморщил сухие губы, вздохнул и, выплеснув оставшиеся на донышке капли в цветы за спиною на подоконнике, грустно уставился на серого шустрого котенка, игравшего на полу с блестящей жестяной пробкой. Потом, будто очнувшись, вспомнил слова жены, стал угощать гостя, подвигая ему по усвоенной еще с детства привычке самые лучшие куски. Константин Феоныч все еще млел после «старки», нюхал, помаргивая, хлебную корочку.
— Раньше ты это снадобье легче глотал... а, старый? — серьезно сказал Лутфулла-абзый. — Что-то сдавать начал... ты это брось...
Дорогомилов наконец взял ложку, зацепил кусок мяса, пожевал, поставил осторожно кружку на краешек стола, утерся тыльною стороной ладони и пробасил:
— А раньше и времена другие были. Когда мы с тобой познакомились... да-а ты и вовсе-то пить не мог, не умел, скажем прямо, ох-хо-хо! — он засмеялся низко и приглушенно. — Да еще похвалялся: наш, мол, народ водки не потребляет. Эвон как теперь-то... одно слово, не сглазить бы... А я что ж, я в своей жизни, можно сказать, ни разу пьяным не напивался... единственно — тот случай, когда ты меня подобрал. Но на пользу! Где б я еще нашел такого друга, не упади тогда по пьяному делу рылом в сугроб?
Не очень-то любили они упоминать всуе о своей дружбе, но, видимо, в день разлуки потеплели и растаяли даже сдержанные сердца этих суровых рабочих людей, зазвенели ослабшие душевные струны.
— Ну, тогда не без причины и выпил, — продолжал Дорогомилов. — Наш русский человек, ежели желает выпить, так готовит закуску, чтоб поострее: огурчики, скажем, соленые, селедочку, лучок свежий... Ну, оно на закусь-то приятно, вкус, значит, водки моментально отбивает, а сытности никакой! Отсюда и хмелеешь, конечно. Первый стакашек подняли мы тогда за скважину. Рады были, что закончили! Не поверишь, какая надоедливая попалась, стерва, всех повыматывала... Ну, второй, сам понимаешь, за Родину. Третий — за здоровье стального бабая! Тут уж хочешь не хочешь — пей! Помню, даже «ура» крикнули! И поехало там, да все полными стаканами, а о закуске-то позабыли. Я, конечно, норму свою знал, но перебрал в тот раз, на радостях, значит. А ты меня в другой раз пьяным видел, скажем, когда у тебя выпивали? Правильно, не было такого. У твоей хозяйки, Диярыч, руки золотые — знатную закуску готовит. Ту закуску не то что горькой водке, пожалуй, и чистому спирту не прошибить!