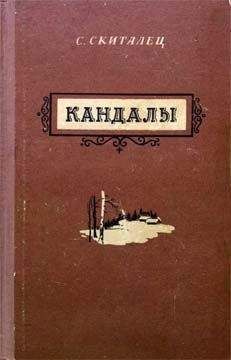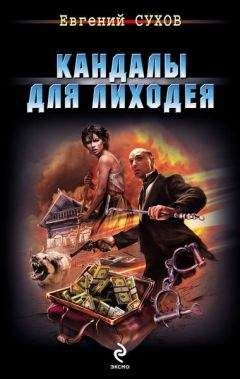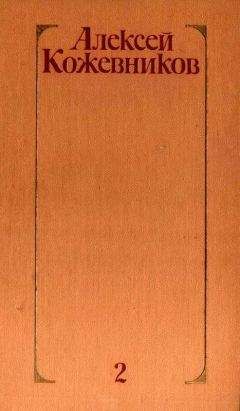Николай Ляшко - Живая вода. Советский рассказ 20-х годов
Вот бы и не улыбался, да рот уголками к ушам тянется И все лицо блестит, как блин скоромный.
— Видел?
— Так точно, ваше бродь. Видел. Тот бугор-то, что вы мне показывали…
— Ну?
— Там на нем австрияк.
А у самого глазки хитренько поблескивают. Рассказал он все по порядку, как крался, как кричала сова, в каком месте встретил врага.
— Вот винтовку и ранец забрал
Ротный взял винтовку, осмотрел со всех сторон. Исправна, заряжена.
— Молодец. А в ранце-то смотрел, что там есть?
— Никак нет, не спопашился.
Расстегнули ранец — белье, еда, книжка какая-то…
— Та-ак, — протянул ротный. — А самого-то австрийца нельзя было живьем привести?
— Никак нет. Голоса недалеко были слышны. Сумно, а слышно. Ежели бы я его разбудил да повел, он закричал бы.
— Так, это, положим, верно. Ты хорошо сообразил. Молодец.
— Рад стараться, ваше бродь.
— А чем же ты его?
— Ась?
— Опять ты ась говоришь, — поморщился офицер, — я спрашиваю, чем ты его, врага-то, прикончил?
— Вот ранец и винтовку взял у него.
— Ну да, это так А с самим-то с ним что ты сделал?
— А он там остался.
— Я знаю, что там остался. Но чем ты убил-то его?
Пильщиков широко открытыми, удивленными глазами посмотрел на офицера. Высокий, рябоватый, кряж настоящий.
И счастливое сияние на лице померкло. А рот чуть открылся.
— Ты же убил его?
— Никак нет.
— Как так? Ты его не тронул?
— Да он же спал, ваше бродь.
— Ну так что же, что спал, черт тебя побери! — вдруг закричал офицер, поднимаясь со стула. — Ты должен был убить его. Раз нельзя взять в плен, надо убить. Он кто тебе? Врат родной? Или отец твой?..
— Никак нет.
— Кто же он тебе? Враг?
— Так точно.
— Так почему же ты его не убил?
— Да я же говорю… Он же спал, ваше бродь.
Офицер злыми, потемневшими глазами посмотрел на Никифора.
— Ну, видали такого болвана? А? Я тебя под суд, негодяя, отдам.
Офицер протянул со стола бумажку, подержал ее, швырнул.
Сам красный весь. И показалось Пилыцикову, что офицер не все понял, — объяснить надо.
— Ваше благородие, встрияк-то спал… храпел… умаялся должно. Ежели б не спал, я б его в полон взял аль бо поранил. А то он спит и храпит. Здорово так храпит. Доведись вот мне. Иной раз так умаешься, ног не чуешь под собой. Бывало, ребята в казармах будят иной раз: «Никишка, не храпи».
Офицер пристально посмотрел на Пильщикова, а тот, знай, ест его глазами.
По уставу, как нужно.
Сероглазый кряж. Такой на вид исполнительный, а на груди белеет «Георгий». И вдруг поползла, поползла улыбка по губам офицера. Будто и не хочет, а смеется.
— Ах ты урод этакий! Балда! Какой ты воин? Ты мужик. Пшел вон…
Повернулся Пильщиков налево кругом, вышел, полный недоумения. И, отойдя от избы, сказал вслух, по привычке, ни к кому не обращаясь:
— Главное дело, спал он. И притом же храпел…
1922
Лидия Николаевна Сейфуллина
Правонарушители
Его поймали на станции. Он у торговок съестные продукты скупал.
Привычный арест встретил весело.
Подмигнул серому человеку с винтовкой и спросил:
— Куда поведешь, товарищ, в ртучеку или губчеку?
Тот даже сплюнул.
— Ну, — дошлый! Все, видать, прошел.
Водили и в ортчека. Потом отвели в губчека.
В комендантской губчека спокойно посидел на полу в ожидании очереди. При допросе отвечал охотно и весело.
— Как зовут?
— Григорий Иванович Песков.
— Какой губернии? — брезгливо и невнятно спрашивал комендант.
— Дальний. Поди-ка и дорогу туды теперь не найду. Иваново-вознесенский.
— Как же ты в Сибирь попал?
— Эта какая Сибирь! Я и подале побывал.
Сказал — и гордо оглядел присутствующих.
— Да каким чертом тебя сюда из Иваново-Вознесенска принесло?
Степенно поправил:
— Не чертом, а поездом.
На дружный хохот солдат и человека, скрипевшего что-то пером на бумаге, ответил только солидным плевком на пол.
— Поездом, товарищ, привезли. Мериканцы.
Детей питерских с учительем сюда на поправку вывезли. Красный Крест, что ли, ихний. Это дело не мое. Ну, словом, мериканцы. Ленин им, што ль, за нас заплатил: подкормите, дескать. Ну а тут Колчак. Которые дальше уехали, которые померли, я в приют попал да в деревню убег.
— Что ты там делал?
— У попа в работниках служил. Ты не гляди, что я худячий. Я, брат, на работу спорый!
— Ну a добровольцем ты у Колчака служил?
— Служил. Только убег.
— Как же ты в добровольцы попал?
— Как красны пришли, все побегли, и я с ими побег. Ну, никому меня не надо, я добровольцем вступил.
— Что же ты от красных бежал? Боялся, что ли?
— Ну, боялся… Какой страх? Я сам красной партии. А все бегут, и я побег.
Солдаты снова дружно загрохотали. Комендант прикрикнул на них и приказал:
— Обыскать.
Так же охотно дал себя обыскать. Привычно поднял руки вверх. Весело поблескивали на желтом детском лице большие серые глаза. Точно блики солнечные — все скрашивали. И заморенное помятое яичико, и взъерошенную, цвета грязной соломы, вшивую голову. У мальчишки отобрали большую сумму денег, поминанье с посеребренными крышками, фунт чаю и несколько аршин мануфактуры в котомке.
— Деньги-то ты где набрал?
— Которые украл, которые па торговле нажил.
— Чем же ты торговал?
— Сигаретками, папиросами, а то слимоню што, так этим.
— Ну, хахаль! — подивился комендант. — Родители-то у тебя где?
— Папашку в ерманску войну убили, мамашка других детей народила. Да с новым-то и с детями за хлебом куды-то уехали, а меня в мериканский поезд пристроили.
И снова ясным сиянием глаз встретил тусклый взор коменданта. Тот головой покачал. Хотел сказать: «Пропащий». Но свет глаз Тришкиных остановил. Усмехнулся и подбородок почесал.
— Что ж ты у Колчака делал?
— Ничего. Записался да убег.
— Так ты красной партии? — вспомнил комендант.
— Краснай. Дозвольте прикурить.
— Бить бы тебя за куренье-то. На, прикуривай. Сколько лет тебе?
— Четырнадцатый, в Григория-святителя пошел.
— Святителей-то знаешь? А поминанье зачем у тебя?
— Папашку записывал. Узнает — на небе-то легче будет. Мать забыла, а Гришка помнит.
— А ты думаешь, на небе?
— Ну а где? Душе-то где-нибудь болтаться надо. Из тела-то человечьего вышла.
Комендант снова потускнел.
— Ну, будет! Задержать тебя придется.
— В тюрьму? Ладно. Кормлют у вас плоховато… Ну, ладно. Посидим. До свиданьица.
Гришку долго вспоминали в чеке.
Из тюрьмы его скоро вызвала комиссия по делам несовершеннолетних. В комиссии ему показалось хуже, чем в губчека.
Там народ веселый. Смеялись. А тут все жалели, да и доктор мучил долго.
— И чего человек старается? — дивился Гришка. — И башку всю размерил, и пальцы. Либо подгонял под кого? Ищут, видно, с такой-то башкой…
Нехорошо тоже голого долго разглядывал. В бане чисто отмыли, а доктор так глядел, что показалось Гришке: тело грязное. Потом про стыдное стал расспрашивать. Нехорошо. Видал Гришка много и сам баловался. А говорить про это не надо.
Тошнотно вспоминать. И баловаться больше неохота. Когда от доктора выходил, лицо было красное и глаза будто потускнели.
Разбередил очкастый.
По вечерам в приюте с малолетними преступниками был опять весел. Пищу одобрил.
— Это, брат, тебе не советский брандахлыст в столовой. Молока дали. Каша сладкая. Мясинки в супу. Ладно.
Ночью плохо было. Мальчишки возились, и «учитель» покрикивал. Чем-то доктора напомнил. Гришка долго уснуть не мог.
Дивился:
— Ишь ты! От подушки, видать, отвык. Мешает.
И всю ночь в полуяви, в полусне протосковал. То мать виделась. Голову гребнем чешет и говорит:
— Растешь, Гришенька, растешь, сыночек! Большой вырастешь, отдохнем. Денег заработаешь, отца с мамкой успокоишь… Родненький ты мой!
И целует.
Чудно! Глаза открыты, и лампочка в потолке светит. Знает: детский дом. Никакой тут матери нет. А на щеке чуется: поцеловала. И заплакать охота. Но крякнул, как большой, плач задержал и на другой бок повернулся. А потом доктор чудился.
Про баб вспоминал. Опять тошнотно стало. Опять защемило.
Молиться хотел, да «отчу» не вспомнил. А больше молитвы не знал. Так всю ночь и промаялся.
Пошли день за днем. Жить бы ничего, да скучно больно.
Утром накормят и в большую залу поведут. Когда читают. Да все про скучное. Один был мальчик хороший, другой плохой…
Дать бы ему подзатыльник, хорошему-то! А то еще учительши ходили:
— Давайте, дети, попоем и поиграем. Ну, становитесь в круг.