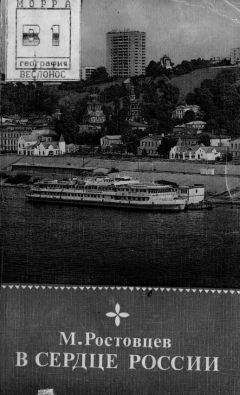Юрий Сбитнев - Костер в белой ночи
— Однако, спою…
И заводит высоким чистым голосом:
Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная —
И нету других забот…
Я вслушиваюсь в песню, улыбаюсь и, не вытерпев, подхватываю.
Бегут олени, бегут звезды в небе, бежит тайга, бежит белый аргиш. Бежит в ночи наша с каюром песня…
И снова точно через полчаса, словно по хронометру:
— Эй, паря! Однако, курить надо! Кровь греть надо!
И снова бегут олени, тайга, звезды, и песня каюра поспешает за ними.
Я не пою. Лежу, поплотнее укутавшись в парку, слушаю голос Степы — его каюрскую песню:
Была бы страна родная…
На следующей остановке Степа сказал:
— К нартам, однако, привяжись. Заснешь — не учуешь, как в снег скатишься. Закалеешь. У верхних людей только и проснешься.
— Выпаду — подберешь, — улыбаюсь.
— Нет, — качает головой Степа. — Я, когда нартами бегу, назад не оглядываюсь. Я вперед гляжу. Чего мне позади надо? Проехал — все видел. Вперед гляжу — так вот надо.
Он отхлебывает из фляги спирт. Приседает на корточки и, открыв рот, ловко кидает под язык снег. С шиком так словно деревенская модница семечки.
— Случай, однако, был, — закуривая, говорит Степан. — Прокурора в тайга вез. Большого, как ты. Тяжелого, оленей два раза ему менял. Устают олени. Шибко весу много. Прокурор кровь грел. Нарту ложился, стал ночевать. Аргиш ровный был, быстрый. Всего-то час бежать нам осталось в Инаригда. Прокурор — депутат, на собрание ехал. Прибежали. Я без парки был, в стеганке, заколел очень. Сразу в избу бежал. Брата просил: «Распрягай оленей, прокурора на собрание привез». Потом курил. Чай с братом пили. Вдруг приходит Алешка Попов. Говорит: «Товарища и гражданина прокурора привез?» — «Привез, говорю». — «Народ его в красном чуме ждет. Пора собрание начинать». — «Пора, говорю, чего не начинаете?» — «Прокурора нет». — «Как нет? Час вот уже прошел, как прибежали». Брат говорит: «Он к нам не заходил. Мы отдыхаем, чай пьем». — «А ты, когда оленей распрягал, его видел?» — спрашиваю у брата. «Он на нарте спал». — «Нет, — говорит брат, — не видел прокурора. Ты его, Степка, потерял. К нарте привязывал?» — «Нет. Я думал, прокурора привязывать нельзя!» — «Дурак, — говорит брат. — Тебя за большого этого человека народ теперь не заметит. Плохо тебе, Степка, будет». А Попов уже в клуб побежал, говорит каждому: «Степка гражданина-товарища прокурора-депутата потерял».
Мы тайга бежали, оленей ловили. Пять нарт запрягали. Спирт, водка, мяса брали, назад бежали. Прокурор под елкой сидел. Живой, но шибко замерз. Идти по аргашу не мог, шибко много на нем всякой лопатины надето было. А раздеться, чтобы налегке по следу идти, боялся. Что, если теряет след. Замерзнет налегке-то. Умный был человек. Под елкой сидел тихонечко. Ждал. Некурящий, а то бы костер завел. С костром лучше ждать. Меня не ругал. Замерз шибко. Потом ругал. Собрание на след день было. Всю ночь прокурора грели. Так что привяжись, однако, — советует Степа, заканчивая рассказ.
И снова через полчаса, как по хронометру:
— Эй, паря! Курить надо! Кровь греть надо!
Совсем непьющий у меня каюр. Даже странно.
Вот так и добрались мы до стойбища Макара Владимировича. Степа, едва успев отпрячь оленей, завалился в дальний угол чума и, сладко зевнув, объявил:
— Болеть буду.
Жена Макара Владимировича — худенькая, маленькая, сухая старушка с удивленно-поднятыми бровями на гладком не по летам лице (время так старательно стругало его, что и морщинки сняло, обтянув скулы и лоб тонкой орехового цвета продубленной кожей), вздула огонь в маленькой переносной железной печке, запалила керосиновую лампу без стекла и вышла на волю разложить костер подле чума — сготовить гостю какую-нито еду.
Я было запротестовал, ссылаясь на поздний час, на усталость, но Макар Владимирович погрозил пальцем:
— Нельзя этак! Нельзя.
И вот мы сидим с ним подле раскалившейся печки, курим. В чуме жарко. Я сбросил с себя одежду, оставшись в одном тельнике. На Макаре Владимировиче только черные «чертовой кожи» брюки. Тело его все исхлестано витыми жгутами мелких мускулов и сухожилий, в иных местах кожу исполосовали рваные рубцы заживших ран. Рубцов много, и кажется, что они тоже налились скрытой неброской силой, превратились в мускулы.
Хозяйка внесла и поставила перед нами маленькую столешницу, стряхнула ладонью пристывшие снежинки. Улыбнулась мне по-матерински ласково, по-детски застенчиво.
— На Усть-Чайку завтра побежим, там промышлять будем, — говорит Макар Владимирович. — Жена — Дарья Федоровна тут побегат с ребятами. Тут соболя довольно, и белка за Авлаканом жирует. А мы на Усть-Чайку.
Я говорю, что весь припас, продукты, палатку и даже два спальника привез с собой и не буду в тягость охотникам. Даже камусные лыжи купил в Буньском.
— Человек человеку в тайге не в тягость, — говорит Макар Владимирович. — Хочешь жить с нами — живи. Мы каждому люду рады. Ружье у тебя хороший?
У меня казенная тозовка. Выписал майор Глохлов. Новая. Пристреливал в Буньском, чуть обвышает. Говорю об этом охотнику. Макар Владимировиче качает головой.
— Ружье есть. Пристрели. Возьми, какой понравится.
Он берет в руки сброшенный мной ремень, на котором купленный в Москве охотничий нож. Нож — загляденье — в кожаных лакированных ножнах, с тяжелой пластмассовой ручкой, с широким, чуть загнутым к жалу лезвием, с бороздкой для стока крови. Точенный московским точильщиком (взял с меня два рубля).
Макар Владимирович пробует жало пальцем, проводит по лезвию. Раз, другой. Кожа на пальце словно бы облуженная, кажется, улавливаю звук металла по металлу.
— Плохой, — говорит охотник. — Шибко плохой. В тайге ненужный. Отдай мальчишке играть. Что делать им будешь? — спрашивает. И сам отвечает: — Ничиво.
Дарья Федоровна ставит на столешницу деревянное блюдо. На нем тоненькие, в лепесток розы, кругляшки сырой сохатиной печенки, в центре блюда горочка темной крошеной горной соли. Печень промерзла так, что не успела оттаять под ножом хозяйки. А может быть, была настругана и загодя, только каждый кусочек от центра и гуще к краю словно бы припудрен выморозью. Из невесть откуда появившейся бутылки Макар Владимирович плескает тяжело падающий в кружки спирт. Мне и Дарье Федоровне всклень, себе чуть на донышке. Прежде чем пригубить, оба старика греют спирт на печурке. Хозяйка только так, за компанию, Макар Владимирович основательно. Кивает нам:
— Пейте.
— За здоров гость, — говорит Дарья Федоровна и пригубливает свой «бокал».
Я делаю два глубоких глотка обжигающей и тут же согревающей, кажется, всю грудь влаги. Закусываю заметно порыхлевшей в тепле печенкой, густо посыпав ее солью. Надламываю хрусткую парную колобу.
Макар Владимирович пьет теплый спирт маленькими, экономными глотками. Каждый глоток дается ему с трудом. Ест он тоже с большим усилием, какое-то перетертое в жидкую кашицу кушанье. Его поставила перед ним в алюминиевой миске жена.
Макар Владимирович болен. Болен давно. Уже четверть века прошло с тех пор, как впервые свила в нем гнездо то утихающая, то снова возникающая, валящая на землю боль. Четверть века борется с ней человек. Что это? Разве смогли бы ответить на этот вопрос тогда, когда впервые вошла она в охотника, даже самые уважаемые местные доктора?
Бессильна наука, бессильны клиники и операционные перед той болью.
И только он один на один ведет с ней неравную борьбу. Четверть века ведет один на один.
Подлая эта боль ищет самого сильного, самого крепкого и валит навзничь, втаптывает в небытие, отнимая все. Сгорает человек за зиму ли, за лето ли, за скоротечную весну, за одну ли осень, за год ли, за три, а тут четверть века. Двадцать пять лет постоянной борьбы. То в лежку лежит человек, иссыхая в палую желтую хвоинку. Но не сдается, крепко держится за жизнь, сжимает в упрямо стиснутых скулах стон ли, крик ли. Уходит от людей, чтобы страданиями своими не омрачать им жизнь. Уходит в тайгу с единственным свидетелем страданий его — Дарьей Федоровной. Уходит, как в клинику, в безлюдную тайгу. Пьет желчь медведицы, обязательно убитой в определенное время и обязательно той, что принесла в мир двух медвежат-мальчишек. По первому году одного и по второму. Пьет эту желчь, особо настоянную и приготовленную на кореньях и травах, на таежной силе. И лекарство это больнее боли, что сушит его в хвоинку. И может, другой, приняв такое, решился лучше уже помереть, а он четверть века делает людям добро, живет для них со своим опытом, со своим знанием и удивительным пониманием всего, что происходит на земле. Восемьдесят зим за плечами, восемьдесят листопадов и ледоставов, восемьдесят раз ломала лед Авлакан-река в его жизни. И за это время прожил он века, эпохи…