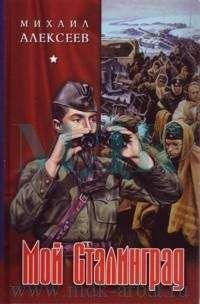Михаил Алексеев - Хлеб - имя существительное
Молчаливый и терпеливый его слушатель все же опять высказал сомнение:
– Откель оно возьмется, изобилие, ежели никто не будет работать?
– Откель, говоришь? Эх, неразумная твоя голова! А машины? Видел, поди, два фырзона к нам пригнали? Чертяки, пашут – удержу нет! Мой бы Бухар за ними не угнался. Теперь буренкам нашим малина, опять приступят к исполнению своих прямых коровьих обязанностей.
Акимушка был не настолько наивным человеком, чтобы все сказанное Кузьмой принимать за истину. Акимушку, например, никак не устраивал коммунизм, где бы никто не работал. С детства, едва став на ноги, сам он трудился и не мог не трудиться, как не мог не есть, не дышать, не пить, не спать. Следовательно, из советов Кузьмы надо выбрать лишь разумные. Главный из них – помогать людям – был всегда главным и для Акимушки. О нем-то он и помнил всякий раз, когда требовалось его вмешательство.
Недолго коровы исполняли свои прямые коровьи обязанности. Началась война – и о буренках опять вспомнили. Тракторов и лошадей и прежде-то не хватало, а теперь подавно. Где-то далеко на западе грохотали орудия, ревели танки. А здесь, над тихими, пригорюнившимися полями, вновь заскрипело ярмо.
На Акимушку, единственного кузнеца в Выселках, выхлопотали бронь. И он в числе пяти-шести мужиков остался среди бабьего царства, среди стариков, подростков и малых детей. Прямо в самой сердцевине горя народного. Идет за плугом бабенка, погоняет, понукает свою кормилицу корову, обливается потом и еще не знает, что вон та девчонка, которая бежит из села с большой ученической сумкой через плечо, несет ей, работнице, недобрую весть. «Похоронная» – так нарекли ту черную гостью, которая зачастила в Выселки. Падает прямо на сыру землю родимая, рвет на себе волосы, ломает и без того изломанные тяжкой работой рученьки, воет дико, со страшным надрывом, – чем утешить ее, где то единственное слово, которое могло бы поддержать несчастную?..
– Слышь-ка, мать?.. Слышь-ка! – Он подымает ее за плечи, поворачивает искаженное болью лицо к себе. – Слезами горю не поможешь. У тебя дети малые – подумай о них...
У Акимушки все дрожит внутри, щеки ходят ходуном от вспухших желваков, но ему нельзя показывать слабость.
– Ну, поплачь, поплачь еще. Слезы облегчают. Дайкось я попашу.
Он уходит вслед за коровами по борозде, большой, неловкий и всем родной. Женщина опять падает в сырую борозду, просит, умоляет:
– Землица, родненькая, возьми и меня к себе... Господи, да что же это?.. Доколе же это?..
Молчит земля. Не торопится принять овдовевшую солдатку. Знает, мудрая, что худо будет тут, на земле, без ее рук, без ее сердца, без ее великого терпения. Стране и ее солдатам нужен хлеб, а кто ж его добудет, если не эта вот рыдающая, корчащаяся от судорог молодая женщина? Встает и, качаясь, медленно идет по борозде. Сейчас она возьмет у Акимушки поручни плуга и поведет пашню дальше. И ничего ему не скажет. Ни сейчас, ни позже, когда увидит на своем вдовьем подворье кучу хвороста, неизвестно кем привезенного ночью...
Конец июля. Год 63-й. Тучи, все почти лето обходившие Выселки стороной, наконец, словно бы посовещавшись, сгрудились отовсюду, поклубились для порядку, ударили раз и другой раскатистым громом, горизонты жадно облизнулись молниями, и на Выселки, на поля, луга, огороды опустился дождь – сначала робкий и редкий, крупные капли падали, подпрыгивали на сухом черноземе, не желавшем принять их в себя, потом этих капель стало больше и больше, и вот они уже соединились и хлынули с небес ручьями. Люди не прятались в домах, стояли посреди улицы с открытыми головами, купались в этой небесной бане; ребятишки, засучив штаны, устремились в первые лужи, образовавшиеся в яминах, на дороге.
– Что вы делаете, паршивцы? А ну, марш по домам! Не то уши надеру!
– Не надерешь, дядя Аким!
– А вот и надеру!
– Не имеешь права. За это тебя в тюрьму посадят!
– Кто это вам сказал?
– Ты сказал. Сам же говорил, что ребятишек нельзя бить. За это судить надо!
– Ишь вы, законники, – незлобиво ворчит Акимушка и возвращается к себе в избу.
Изба эта теперь покрыта шифером. Рядом еще две такие же избы. А там еще и еще. С полей гонят в гараж машины – тракторы «Беларусь», ДТ-54 – это, кажется, Харьковского завода-ветерана; а вот разбрасывает гусеницами грязь КПД-35 Липецкого завода – прямого наследника ветеранов; грузно плывет с горы великан челябинец; за ним будто бы семенит крохотный кировец-универсал. Акимушка невольно останавливается, глядит на тракторы и неожиданно думает о том, что они съехались в его Выселки чуть ли не со всех концов страны. Чтобы Выселкам было легче жить. Чтобы Выселкам было повеселее. С полей же спускается вниз согнанное дождем стадо. Буренки вновь приступили к своим прямым служебным обязанностям. Теперь уж, вероятно, навсегда.
А вечного депутата ждет в избе тетенька Глафира. Она нетерпеливо ерзает на лавке, стреляет шустрыми глазками туда-сюда, ждет, по всему, нахлобучки.
– Чего ж ты, тетенька Глафира, боронешку-то от кузницы утащила? – спрашивает Акимушка. – Зачем она тебе?
– Я не тащила.
– А как же она у тебя во дворе оказалась?
– А вот как дело было, Акимушка. Иду я это восейка мимо кузни – гляжу, лежит она, боронешка. Дай, думаю, возьму, а то ведь унесут, украдут. Лежит без присмотра.
– Судить будем тебя, тетенька Глафира. За кражу.
– Судить?
– Судить.
– Товарищеским?
– Товарищеским.
– Ну и слава Богу! – Тетенька Глафира даже перекрестилась.
– Чему же ты рада?
– Да как же? Судить-то будешь ты, Акимушка. Свой человек. Опять же депутат наш. Неужто засудишь?!
Тетенька Глафира глядит нахально, хитрые глазки ликуют. Верно, она успела уже обратить в свою пользу и демократию, породившую в числе прочего и товарищеские суды.
– Нет, будем на товарищеском хлопотать о передаче дела районному прокурору. Ты ведь не только боронешку стащила. Ты и силос зимой потаскивала с колхозной фермы. Придется стукнуть тебя по рукам. Длинноваты они у тебя.
Огоньки тухнут в глазах тетеньки Глафиры. Она смотрит на Акимушку и не узнает его: нет в его лице обычной доброты.
Агафья, Дорофеевна и другие
В Выселках у меня много родни: двоюродные и троюродные братья и сестры, такого же ранга племянники и племянницы, дяди и тетки – этих последних становится все меньше и меньше, зато по геометрической прогрессии растет число племянников и племянниц. Ничего не поделаешь: годы идут и неумолимо делают свое дело. Не заметишь, как появятся в Выселках мои двоюродные и троюродные внуки и внучки. Кажется, они уже и появились.
Останавливаюсь я у «сродственников» своих по очереди: в этом году у одних, в следующем – у других, а еще в следующем – у третьих. Таким образом, за послевоенные годы я поквартировал почти у всех моих родных. Оставалась тетка Агафья. Идти к ней на постой мне не хотелось: старуха очень уж религиозная, я знал, что у нее по воскресным дням собираются ровесницы и за неимением церкви отправляют прямо в Агафьиной избе разные церковные обряды. В ины дни доводилось мне слышать, как из открытой двери на улицу глухо катилось:
Да воскреснет Бог,
И расточатся врази Его...
Среди гнусавых и шепелявых старушечьих голосов я различал особенно гнусавый – моей тетки. И вот к ней-то мне все же пришлось однажды пойти поквартировать – настояли родственники: обижается, мол, старуха; ей и жить-то уж немного осталось, прости ее, грешницу, уважь, поживи недельку.
Уважил, пожил эту самую недельку. И не жалею, потому как не каждому подвернется такая редкая возможность – совершить путешествие на добрую сотню лет назад, к середине прошлого века.
Четыре Агафьины подружки в возрасте от семидесяти до ста лет приходили по утру чуть ли не ежедневно и потчевали меня с утра до поздней ноченьки своими песнопениями. Не появлялись они лишь в те дни, когда кто-нибудь в Выселках или окрестных деревнях и селах умирал и старушенциям непременно надо было идти на поминки – без них ни одни поминки обойтись не могли. Второй день после поминок уходил на воспоминания – хороши ли эти поминки, так ли готовили кутью, лапшу, щи и прочие поминальные харчи. Выходило, что все не так как надо, раньше все было лучше, по-божески, по-христиански.
Как-то я не выдержал и объявил старухам:
– А ведь я тоже был на поминках.
– Это кто ж помер, касатик?
– Да никто не помер. То есть помереть-то померли, но давно.
– А стало быть, родителев поминали.
– Вот именно. Хотите, расскажу, как было?
– Расскажи. Расскажи, голубок... Мои богомолки чинно расположились вокруг меня, притихли, приготовились слушать. Одна спохватилась:
– Пойду накину крючок. Не ровен час Капля заявится. Не даст послушать. Он, антихрист, завсегда помешает!..
Вернувшись, она села на свое место, сложила руки крест-накрест на большом своем животе, икнула и замерла в благолепном смирении. И тогда я начал свой рассказ...