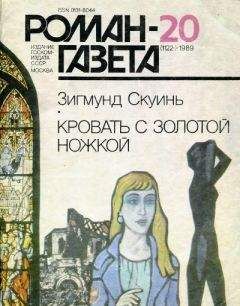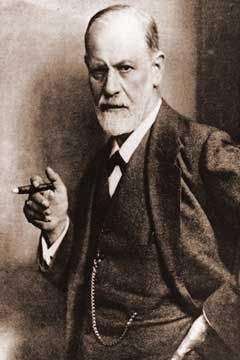Зигмунд Скуинь - Нагота
— Как-то наши туристы приехали в Габрово. Гостиница в старом здании. Двум дамам, таким, как мы, отвели номер под самой крышей. Дамы огляделись, все чин чином. Одна зашла в туалет, и в тот момент, когда спустила воду, началось землетрясение. Грохот жуткий, дом дрожит и скачет, словно на сетке батута, крышу вообще снесло. В чем дело, спрашивает та, что оставалась в комнате. Другая выходит из туалета в явном смущении, потупила глаза: прошу прощения, похоже, клозет у них не совсем в порядке.
Ася рассеянно улыбнулась. Веселость Мелиты казалась не вполне уместной. Впрочем, ее неистребимый оптимизм действовал успокоительно.
В бледном утреннем свете, на фоне сизого, еще не окунувшегося в знойное марево неба, четко проступали снежные вершины гор. Спящий город казался вымершим.
— Который час?
— Начало шестого.
Ася огладила плечи; сколько можно стоять посреди номера в ночной рубашке. Взгляд возвратился к стакану. Ложка в нем утихомирилась.
— Если вылет в десять двадцать, у нас еще, по крайней мере, два часа.
— Да уж не меньше.
— Во сколько тебе обещали билеты?
— Где-то после восьми.
— Надо попробовать уснуть.
— Чего тут пробовать. Перевернемся на другой бок, и все. Варис считает, что во сне совершенно необходимо переворачиваться с боку на бок. Под влиянием вращения земли нагрузка на стенки кровеносных сосудов неодинакова.
Забравшись обратно в постель, Ася приятно расслабилась. Чего она так перепугалась? Незначительные колебания земной коры в этом районе вещь обычная, как, скажем, дождь в Латвии или полярное сияние на Севере. Она вспомнила свой круиз по Средиземноморью и лениво дымящую Этну. Глубоко под землей, в котлах вулканов, беспрестанно кипит и бормочет лава, однако извержения случаются редко. Точно так же, должно быть, обстоит дело с землетрясениями. Ася закрыла глаза: надо постараться уснуть, повторяла она про себя, но вместо ожидаемых туманов дремы ее со всех сторон обступали мысли.
Мелита, слава богу, вела себя так, как будто той ночи в помине не было. За ураганом пришел антициклон, вызванный, как кажется, взаимными сожалениями, угрызениями совести и, возможно, обоюдным желанием это происшествие поскорее предать забвению. Нечто похожее Ася помнила из детства. Мать была крута на расправу, совсем немного требовалось, чтобы получить от нее взбучку, однако приступы гнева настолько потрясали их обеих, что вскоре мать и дочь бросались друг другу в объятия, нежностью и лаской врачуя свежие обиды.
Без особых споров, из чувства женской солидарности их примирение произошло на почве единения против доктора как главного виновника всего (виновный должен быть, без этого нельзя!). И потому, когда Смилтниек, посмотрев вчера последний рентгеновский снимок ноги, стал настаивать на серьезном лечении, постельном режиме и прочее, Мелита без раздумий решила вернуться домой: не хочу оставаться, ты отправляйся в горы, я же немедленно вылетаю в Ригу. И она, Ася, с не меньшей самоотверженностью объявила: об этом не может быть и речи, вместе приехали, вместе уедем. И они обе, растроганные своим благородством, еще долго говорили в духе возвышенной поэзии Байрона и Шелли. Однако доктор проявил еще большее благородство, сам предложив достать им билеты на рижский самолет, что, разумеется, было несравненно труднее, чем в свое время Байрону раздобыть для греческих повстанцев шхуну с ружьями.
— Ася... ты не спишь?
— Что-то не могу заснуть.
— Напрасно я тебя разбудила. Не было ни малейшей нужды.
— Ерунда. Нигде я так много не спала, как здесь.
— Сон штука тонкая, к нему надо приноровиться. Когда Варису сделали операцию и я работала на двух работах, мне хватало пяти-шести часов. Встану, а голова такая ясная, чувствую себя вполне отдохнувшей.
— Когда ж это Варису делали операцию?
— Разве не помнишь? В одиннадцать лет ему кромсали почку. Вот я и приноровилась: днем в лаборатории, ночью у Вариса. Позднее вполне официально оформилась нянечкой. Какая разница, подам ли я горшок одному Варису или еще пятерым-шестерым симпатичным мальчишкам.
— И долго там проработала?
— Порядочно. Первая операция оказалась неудачной, пришлось повторить. Я же тебе рассказывала.
— Да, помню, он лежал в больнице, но я думала, это просто так.
— Просто, да не совсем. Полтора года тянулось. И потом как приходилось следить! Того ему нельзя, этого нельзя, пища без соли. Лучше не вспоминать.
— А теперь Варис здоров?
— В общем, здоров, не жалуется. Да все равно остерегаться надо. — Начатую со всей серьезностью фразу Мелита, как обычно, закончила шуткой: — Нас с бабушкой для этого насилу хватает. Иногда мы, правда, халтурим, но сейчас уже легче. Мужчин нельзя слишком баловать. Если, говорим, тебя наш сервис не устраивает, женись, приводи домой жену. Втроем нам будет легче.
— И женится, а ты как думаешь. Навряд ли будешь тогда веселиться.
— Пока о девицах он слышать не хочет. Сердится, когда заводим подобные речи. Вы-то что станете делать, если я женюсь, спрашивает. Мы тоже семьями обзаведемся... Ты, — удивляется. А что удивляться, почему бы и мне не завести мужа? — И наша бабушка тоже? — Разумеется. Чем наша бабушка плоха! — Но тебе, Ася, честно скажу, не гожусь я для этого..,
— Для чего?
— Для замужества, для семейной жизни... Один раз почти решилась, и суженый по всем параметрам как будто подходил. А потом задумалась: связать себя на всю жизнь, взвалить такую обузу, и обстирай его, и приготовь, подай, прими... Зачем? Какой смысл? Другое дело: сын. Родной, плоть от плоти. Но чтобы какого-то мужчину... Душа не принимает. Тебе никогда не приходили в голову подобные мысли?
И обе дружно рассмеялись. Но повод для смеха у каждой был как будто иной. Мелита смеялась из чистого веселья, и вообще совсем немного было нужно, чтобы Мелита рассмеялась. А вот Ася смеялась явно от смущения. Вопрос ей показался более чем странным, в какой-то мере даже коварным, и она медлила, обдумывая, что ответить.
— Положим, свою роль тут играет любовь.
Уж не ломится ли Мелита со своей откровенностью к ним с Гунаром в спальню?
— Любовь, говоришь? — Веснушчатое лицо с облупившимся носом приподнялось над подушкой. — Хорошо, пусть будет любовь. Допустим, все вершит любовь. Так трогателен рассказ о Ромео и Джульетте, и седовласый Гремин поет про любовь с умилением. Но я спрашиваю вполне серьезно, подобные мысли давно не дают мне покоя. В двадцать лет любовь как таковая казалась бесспорной. Тогда бы ради любви я взошла на костер, положила голову на плаху. А сегодня ничего не понимаю. Любовь — а что это такое? Я видела такую любовь, что хотелось молитвенно сложить руки и упасть на колени, но вот прошло немного времени — осталась лишь занудливая будничная проза. А бывает и так: любовь, ах, какая распрекрасная любовь, и вдруг нате вам — одна сплошная ненависть! Может, подобные вещи случаются с маленькими, мелкими людишками, у которых и любовь маленькая, мелкая! Но вспомним великих, вспомним любовь Райниса и Аспазии. Долгие годы в ней было все: самоотверженность, самопожертвование, духовное обогащение, совместные интересы. Разлученные, они годами писали друг другу восторженные письма. А что потом? Разочарование. Равнодушие, отчуждение. Addio, bella.[4] Дочь луны... Что мы знаем о любви? Чего больше — счастливых или неудачных супружеств? Отчего счастливая любовь, в конце концов, оказывается совсем несчастливой, а несчастливая порой бывает не такой уж несчастливой? Быть может, каждому отпущено определенное количество любви, и расходуется оно точно так же, как бензин в моторе, а после — стоп, ни с места. А что, если любовь — это обман, такая же прекрасная иллюзия, как сияние радуги? Нам-то кажется, вот надежная опора, по которой можно на небеса забраться. Почему ты молчишь? Возражай! Доказывай, что я неправа. Заступайся за любовь.
— Я думаю...
— Выкладывай свои аргументы. Скажи, стоит ли любовь того или нет? Может ли человек в нашем возрасте, устраивая судьбу, принимать в расчет столь несерьезный и переменчивый фактор? Не так же ли наивно пытаться строить на фундаменте любви жизнь, как, скажем, пытаться к лунному мосту приделать балюстраду? Скажи, как долго можно быть глухим и незрячим, как долго можно закрывать глаза на взаимные недостатки, не замечать взаимных слабостей? А потом? У каждого свои изъяны и ошибки. Да ты никак окривела, в один прекрасный день тебе заявит твой супруг, и будет прав. Я же скажу: а ты, мой милый, окосел. И тоже буду права. Мы оба правы, но после этого возможна ли любовь? В лучшем случае будем терпеть друга друга по привычке. Или ты веришь, что можно знать недостатки и, несмотря на это, любить? На слепоту, наивность надежды плохи!
Словоизвержения Мелиты внушали ей беспокойство. Интересно, куда она метила? Такая горячность связана с чем-то конкретным и личным, не иначе. Что-то за этим скрывается? Догадки распаляли любопытство, нашептывали всевозможные предположения, однако рассудок их тотчас отвергал. А не уловка ли это? Не собиралась ли Мелита всучить ей пуговицы, от ее же платья тишком отрезанные? Было бы напрасно отрицать, что подобные рассуждения и самой Асе давно не давали покоя, быть может, и не в столь законченной, категоричной форме. Но вот теперь эти мысли, высказанные устами Мелиты, обрели свой четкий смысл и контур. Слушая Мелиту, она совершенно определенно ощутила, как где-то внутри опять вспыхивают искорки неприязни. Пустопорожняя болтовня, не больше. На уровне школьного диспута «что такое любовь».