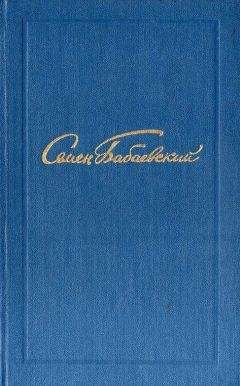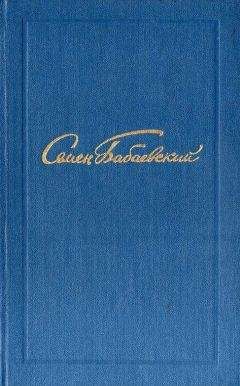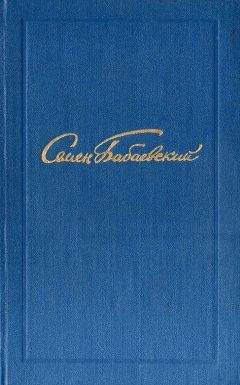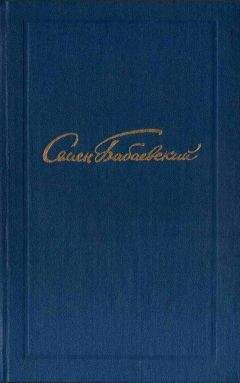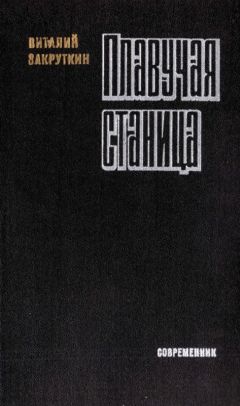Семен Бабаевский - Собрание сочинений в 5 томах. Том 5
Домой Василий Максимович возвращался по уже освещенной зарей улице, и был он в превосходном настроении. Ему хотелось и улыбаться, и петь, и с кем-нибудь перекинуться словом. А что, собственно, случилось? Да ничего! Близ станицы прогремела колонна машин, сперва остановилась перед холмами, а потом прошла мимо них, и только. Другой бы на его месте не только не обрадовался бы, а даже не обратил бы внимания на машины, пусть себе движутся, куда им надо. Василий же Максимович от природы был человеком добрым, душевным, и в жизни для него не было ничего такого, что не волновало бы старика, не огорчало или не радовало. А тут еще радость была связана с холмами. И поэтому то, что пугающая своим грохотом утреннюю зарю колонна машин только на минуту задержалась против холмов и сразу же покатилась дальше, куда ей нужно было поторапливаться, принесло ему такое внутреннее удовлетворение, такое хорошее настроение, точно бы он сам, своей рукой отвел от холмов нависшую над ними беду, и что холмогорцы, узнав об этом его поступке, станут радоваться так же, как и он, и будут говорить о нем и в семье и на улице одно только хорошее, и непременно скажут: вот такими, как Василий Максимович, и должны быть все люди.
Во двор он вошел эдаким молодцом, в его усах ютилась улыбка, и Анна Саввична, хорошо знавшая своего мужа, без труда поняла, что никакой беды с холмами не стряслось. И все же она спросила:
— Ну что там за шум-гам? И что с холмами? Никуда не делись?
— Стоят, голубчики, красуются, и стелется по ним ковыль, как метелица. — Василий Максимович поглаживал усы, старался выдворить оттуда улыбочку и не мог, а в голосе звучала гордая нотка. — Те машины, что нас разбудили, промаршировали мимо! Малость было задержались перед самыми холмами, а потом двинулись дальше. — И он многозначительно добавил: — Вот, мать, как получается: родной сын слушать не пожелал, а Нестерыч и выслушал и подсобил… Ну, теперь мне можно спокойно отправляться к своим вершам, там меня заждались голавли и усачики. Где ведро? Солнце-то вот-вот взойдет, а мне еще ехать в степь.
В ту минуту, когда Василий Максимович взял свою цибарку с зажаренными кусками жмыха, пахнущими на весь двор горелым маслом, и хотел было зашагать через огород к Кубани, в калитку не вошла, а влетела, как ветер, Варвара. Она плакала навзрыд, подбежала к Анне, слезы не давали ей вымолвить слово, и она, не в силах держаться на ногах, опустилась на скамейку.
— Варенька, милая, да что с тобой? — испугавшись, участливо спросила Анна Саввична. — Отчего такие слезы? Чего молчишь? Ну, успокойся и скажи, что случилось.
— Евдоким Максимыч погиб… — всхлипывая, чуть слышно проговорила Варвара.
— Погиб? Да ты что? — Василий Максимович поставил цибарку и подошел к Варваре. — То есть как погиб? Да говори же толком!
— Машина раздавила…
— Когда? Где?
— Только что… Он и раньше, бывало, уходил к холмам ночью… Бывало, проснется и уйдет. — Варвара снова залилась слезами и не могла говорить. — А сегодня перед рассветом выскочил из хаты, как угорелый, и побежал… Я следом, потому как вижу — неладное с ним что-то. «Не дозволю! — бежит и кричит. — Не допущу! Брата моего пожалейте, ироды!» А машины идут и идут… И вот тут…
Варвара недосказала и еще больше залилась слезами.
— Что тут? Что? — Анна Саввична наклонилась к Варваре. — Да говори же, Варюшка, что?
— Как раз возле холмов он выбежал наперед машины, — всхлипывая, продолжала Варвара. — Поднял руки и закричал… И я уже ничего не видела и не слышала… Его толкнула машина, и он упал навзничь. Сбежались люди, повыскакивали из машин, подняли Евдокима, положили в машину и увезли. Я только видела, что вся борода у него была в крови. Зараз он в больнице…
— Живой? — спросил Василий Максимович.
— Не знаю. — Варвара смотрела полными слез глазами, скривив губы и захлебываясь плачем. — Его увезли, а я побежала к вам…
— Так вот оно почему возле холмов останавливалась колонна, — как бы думая вслух, тихо говорил Василий Максимович. — Знать, не сдержался братуха, поднял-таки руки… Технику хотел остановить… Эх, дурень, дурень старый… — И к жене: — Я поеду в больницу.
Он выкатил за калитку мотоцикл, вскочил в седло и застрочил по тихой, еще хранившей ночной покой улице.
47
В тот же день, не приходя в сознание, Евдоким Беглов умер. Многим его смерть казалась странной и бессмысленной, и поэтому вызвала в станице разного рода толки и суждения. Говорили о том, в частности, что еще с той поры, когда Евдоким увел из конюшни своих коней и укрылся с ними в горах, он лютой ненавистью возненавидел всякие машины, не мог не то что ездить в них, а даже спокойно смотреть на них; что машины часто виделись ему во сне, гусеницы и тяжелые железные колеса накатывались на него, сдавливали дыхание, и он просыпался с криком и весь в поту; что будто бы, как уверяла Варвара, заслышав возле хаты рокот мотора, Евдоким вскакивал и ночью ли, днем ли опрометью бежал на улицу, что якобы он давно уже грозился уничтожить машины все до единой… Но как? Никто об этом не знал.
— Конечно, изничтожить машины — это же несусветная глупость, ибо первое то, что без машин неможно жить людям, а второе то, что свершить такое никому не под силу, и потому этой брехне нельзя верить, — говорили одни. — А вот то, что к технике вообще, а стало быть, и к нашей нынешней жизни Евдоким издавна питал озлобленность, то это есть чистейший факт, и тут всякий скажет: да, так оно и было…
— Было, да не так, — возражали другие. — Скорее всего этот бородач в черкеске злобу к машинам не питал, а просто был придурковатым от рождения. Потому как нормальный, здравомыслящий человек не стал бы кидаться грудью на гусеницы в момент их движения. А мы что видим? Дурость и ничего больше!
— Выходит, старик намеревался задержать технику в момент ее устремления вперед? Э, куда махнул! Как же такое можно свершить? — удивлялись третьи. — Это похоже на то, как если бы какому полоумному субъекту взбрело в голову войти в Кубань, да еще в момент ее половодья, и грудью остановить течение? Смешно!
— Верно, грудью ни Кубань, ни гусеничный тягач еще никто не останавливал, и тут Евдоким явно не рассчитал свои силенки, а через то и погиб… Но есть законный вопрос: что именно понесло его на эту погибель? Какая такая задумка таилась у него в голове? — доискивались до истины четвертые. — Значит, в голове у него что-то копошилось. А что?
— Не иначе — выпил лишку. Покойник сильно любил спиртное.
— Э, нет! И еще раз нет! Ни водка, ни враждебность к машинам тут ни при чем, — уверяли пятые. — Всему причиной отъезд из станицы Михаила Тимофеевича Барсукова. Вот где таится разгадка. Как только Евдоким узнал, что в «Холмах» Барсукова не будет, он сильно затосковал, выпил для храбрости и попер напропалую. Вот и получается: не надо было забирать от нас Михаила Тимофеевича.
У водителя Новожилина, под гусеницы трактора-тягача которого попал Евдоким, следователь спросил:
— Расскажите поподробнее, как это случилось.
— Сам удивляюсь, как и что произошло, — ответил Новожилин. — Один миг — и готово. Рассудите сами. Я вел тягач, на моем прицепе погружен бульдозер, шел я головным, следом за «газиком», скорость нормальная. Кругом толока и темень, располосованная, как ножом, фарами. И вдруг из темноты в двух шагах от гусениц выскочил человек с поднятыми руками, как все одно какое привидение. Я нажал на тормоз, и в тот миг человек упал… Вот и все, что я видел.
— О чем он кричал? О холмах или о Барсукове?
— Что-то крикнул, а что именно — не знаю. За гулом моторов разве что услышишь?
Следователь попросил Новожилина подписать протокол допроса.
— К тому, что я сказал, следовало бы добавить. — Новожилин взял карандаш. — Как же это он, разнесчастный дедусь, решился кинуться на машину? Смешно даже подумать. По всему видно, тот дедусь был с придурью.
Иначе, совсем не так, как Новожилин, как холмогорцы, думал о случившемся несчастье близ холмов Василий Максимович Беглов. Он не считал своего брата ни ненормальным, ни выжившим из ума и не верил, что Евдоким якобы бросился на гусеницы только потому, что Барсукова не стало в Холмогорской. В этой трагической смерти он видел закономерный конец трудной и в общем-то бессмысленной жизни своего старшего брата. После похорон, придя с кладбища домой вместе с женой, Василий Максимович с грустью посмотрел на ее заплаканное лицо и сказал:
— Анюта, не надо плакать. Мне тоже жалко брата, да что поделаешь. Сам накликал на себя беду.
— Непонятно жил и так же непонятно умер, вот что, Вася, обидно.
— Ничего непонятного в его смерти нету, — ответил Василий Максимович. — Все произошло как по написанному. И ты не думай, погибель Евдокима свершилась не вчера, она, как я смыслю, зачалась давно, еще с его коньков, каковых он увел из колхозной конюшни и подался с ними в банду, и завершилась теперь, с коньками железными. Вот и получается: против чего пошел, в том и смерть свою нашел.