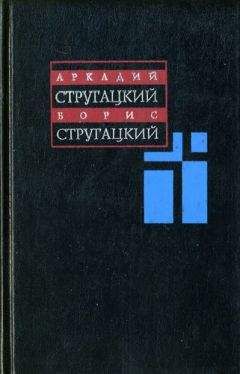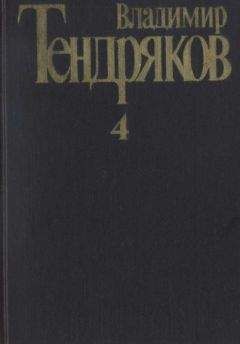Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Т. 2.Тугой узел. За бегущим днем
Нас еще многие не поймут, многие осудят, кто-то из людей еще проявит к нам жестокость, но мы и это должны вынести.
Я шагал узеньким переулком, по крепко утоптанной, глухо стучавшей под ботинками тропинке. Свисающая из-за заборов листва черемух и рябин задевала меня, обдавала росой.
Неожиданно на моем пути появилась долговязая фигура; тонкие ноги широко расставлены, кулаки уперты в поясницу, острые локти торчат в стороны, жесткие волосы упали на брови. Мне загородил дорогу Василий Тихонович.
Поздно сворачивать — он глядит на меня, — да и некуда сворачивать.
— Не спеши, — надвинулся он. — Дай поглядеть, каков ты в новой роли.
— Спросить хочешь, почему не пришел? — начал я.
— Хочу сказать, что ты подлец! — оборвал он меня. — Таскайся за юбками — твоя воля, но не продавай за юбку дело. Не явиться, подвести, дать козырь Коковиной!..
— Слушай, Василий, случаются вещи важнее…
— Важнее дел, которые ты сам заварил! Продать все за бабенку!
— Молчи!
— Нет уж, мне пришлось молчать там. Когда Коковина твоим именем мне рот заткнула. Уж разреши поговорить. Или теперь тебе все безынтересно, кроме этой юбки со смазливой рожицей да сладенькими речами?
— Василий! — подался я на него.
Меня охватил страх: вот оно, начинается! Насмешки, грязь, и не на меня, на Валю! И кто насмехается? Если Тоня выкрикивала ругательства, то перед ней я беспомощен, я чувствовал за ней право — пусть постыдное, недостойное, — но право ругаться, негодовать, обзывать. Но тут Василий Горбылев, он считается моим другом.
— Меня ругай, а ее не тронь, — сказал я.
— Тебя?.. Да ты невменяем. Тебя ничем теперь не прошибешь.
— Василий…
В рассеянных сумерках быстро сгущавшегося вечера я видел туго сведенную линию бровей, притушенный блеск глаз, обтянутую кожей переносицу.
— Что Василий? Кланяться тебе прикажешь за то, что эта комнатная болонка так тебя…
Он не договорил. Я с размаху ударил, целясь в мерцающие глаза, в костистую переносицу. Василий дернул головой, и удар пришелся в зубы. Он покачнулся, вытер ладонью рот, внимательно оглядел ее, бросил быстрый взгляд на меня, сплюнул кровавую слюну мне под сапоги, сначала отвел в сторону крючковатый нос, потом медленно, с трудом повернулся и так же медленно, толкая себя вперед, нескладным шагом двинулся прочь.
А я стоял, одной вспотевшей рукой сжимая ручку легкого громоздкого чемодана, на другой руке ощущал в суставе мертвенно-холодящий след от удара.
Никогда мы не мерились с ним силою, но я-то знаю, он не из слабеньких, может при нужде дать сдачи. Но он не сделал этого…
Переулок был пустынен. Влажно шуршала листва и ближайшем палисаднике. На чьих-то огородах деревянным, несмазанным голосом скрипел заблудившийся гусь.
И раскаяние, и стыд, и предчувствие страшной, непоправимой беды вдруг навалилось на меня. Катастрофа позади? Она окончилась? Нет, все только начинается, все ломается и дальше будет ломаться. Вот и сейчас я сломал дружбу с Василием Горбылевым. Нет товарищей, нет дома, нет дочери — ничего нет, кроме Вали, беспомощной и одинокой.
Дорогой же ценой она мне достанется…
Мы улеглись, подстелив под матрацы на затоптанный пол газеты. Лежали, обнявшись, в нежилой комнате, беспорядочно заставленной упакованными вещами, чужой комнате, временном, неуютном пристанище, которое утром нам нужно оставить.
Время от времени по дороге проезжала машина, и свет ее фар проникал сквозь незанавешенные окна, скользил по оголенным стенам, освещал на минуту тюки, обшитые мешковиной, поблескивающие никелем спинки кровати, обвязанные веревками. И от этого плывущего света становилось еще неуютней.
Мы не спали, молчали. Я прислушивался к боязливому дыханию Вали. Мы оба одинаково чувствовали одиночество, от этого теснее прижимались друг к другу, и нас охватывала щемящая родственность. Ведь у меня только одна она, у нее — только я.
19Жить в Загарье, изо дня в день чувствовать косые взгляды, постоянно ощущать себя в центре досужего любопытства, знать, что добросердые хозяюшки, встречаясь у колодцев, бесцеремонно перемывают косточки тебе самому и, что хуже, Вале. Жить и помнить, что рядом живет озлобленная, ненавидящая тебя Тоня. Твой самый близкий друг незаслуженно обижен тобою. На работу, которой ты прежде отдавал все свои силы, пытаются наложить запрет. Нет у тебя здесь дома; кроме дочери, нет родных.
Казалось бы, что проще — найми машину, побросай туда нераспакованные Валины вещи, поезжай на станцию, возьми билет на поезд — и новые места, новая жизнь!
Так думал я, лежа рядом с Валей, в ту ночь. Но утром понял, что сорваться немедленно с насиженного места невозможно. Тысячи мелочей не пускают. Надо оформить свой уход с работы. Придется, возможно, хлопотать в области о направлении в другой район. Предъявлять доказательства, вести щекотливые разговоры… На все нужно время.
Но самое важное, самое серьезное, что меня прочно держит в Загарье, — это Наташка. Отмахнуться от нее, уехать, писать письма, высылать деньги, пусть себе растет в стороне… Нет, не могу! Надо договориться, чтоб можно было время от времени навещать ее. Сейчас Тоня слишком ожесточена, с ней невозможно вести разумные переговоры. Признание о поспешном бегстве из Загарья вызовет у нее бешеное негодование. Надо ждать. Надо жить…
Днем я случайно столкнулся на улице с председателем колхоза Иваном Шубниковым, и он свел меня к хозяйке, которая согласилась сдать нам пол-избы.
Мы стали квартирантами Марьи Никифоровны Клюкиной. Была у нее когда-то большая семья: муж, свекор, свекровь, сын и дочь. Мужа убило в первый год войны. Скончались свекровь и старик свекор, а сын погиб в первых числах мая сорок пятого года где-то в Германии. Дочь года три тому назад вышла замуж и уехала искать счастья в Сибирь. Марья Никифоровна жила одна — маленькая, ссохшаяся старушка, на морщинистом, продубленном лице выделялись ясные, кроткие глаза; ни слезы по умершим, ни тяготы вдовьей жизни, иссушившие ее тело, не помутили чистоты этих глаз, не вытравили из них врожденной доброты.
Нам была отведена просторная горница, отделенная от жилья Марьи Никифоровны массивной русской печью и легонькой дощатой переборкой. Некрашеные полы хозяйка вымыла до солнечной желтизны, на низенькие окошечки повесила вырезанные из газеты незатейливые украшения.
Из окраины Дворцов, где мы поселились, до центра Загарья было всего минут двадцать ходьбы через мост, соединяющий оба берега реки Курчавки. Там — булыжные пыльные мостовые, двухэтажные здания, там — деловой центр района с вывесками учреждений и магазинами. Здесь же — околица деревни, вместо булыжной мостовой поросшая травой дорога, по которой раз в день простучит колхозная телега; вместо двухэтажных зданий с высокими окнами — крестьянские избы с сараями, поветями, бревенчатыми замшелыми въездами на эти повети; здесь ветхие крыши осевших в землю банек утопают в зарослях крапивы; здесь покосившиеся изгороди, связанные из длинных жердей; здесь по утрам вместе с чадным запахом печного дыма разносится запах парного молока из хлевов. Тут своя неторопливая жизнь, которая на первых норах как-то успокаивала меня.
Марья Никифоровна старалась, как могла: не оказалось в Валиных вещах подушек — дала свои, нужны были доски для полок — разрешила разобрать в старом амбарушке пол, у соседей выпросила рубанок и стамеску; топор, молоток и гвозди нашлись в ее хозяйстве.
Я принялся тесать, строгать, сколачивать. Хозяйственностью и домовитостью я окончательно подкупил Марью Никифоровну. Она любовалась с крыльца, как я подгоняю доски друг к другу, сокрушенно качала головой и не уставала повторять:
— Вот ведь мужик в дом пришел. Алексея моего напоминаешь, сердешный. Тоже, бывалоча, за что ни возьмется, все в руках горит…
Во мне, наверное, погиб недюжинный плотник. С детских лет любил я действовать топором и рубанком. Во время учебы на художника никто из ребят не мог быстрей меня сколотить крепкий подрамник, обтянуть его так, что при одном прикосновении холст звучал, словно бубен. Запах свежей щепы и стружки всегда вызывал во мне смутное волнение. Теперь работа избавляла меня от назойливых мыслей.
Я поставил полки, разложил на них Валины книги. Валины платья, расправленные на плечиках, повисли в дощатом простенке возле дверей. Все непривычное, ненастоящее, все временное.
И как ни странно, я вдруг понял, что в этом временном нам придется жить долго-долго, что в ближайшие дни и недели мы не уедем из Загарья, эти полки, эти занавески, такие непривычные для меня, — новые корни.
Единственная вещь, к которой я испытывал родственные чувства, картина в простой раме, изображавшая поросшее ельничком болотце.
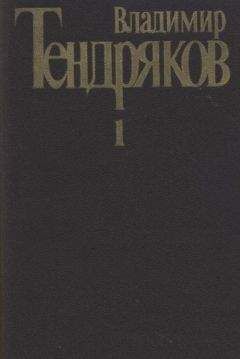

![Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/134063/134063.jpg)