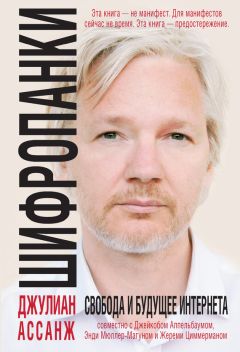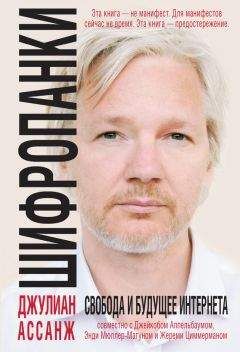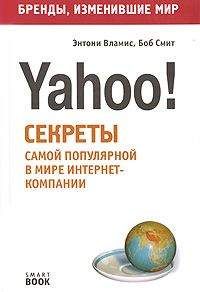Михаил Алексеев - Ивушка неплакучая
Доярки, поджимая животы и охая, смеялись. Смеялась вместе с ними и Феня. Затем, с трудом удержав в себе рвущийся наружу смех, посоветовала старухе:
— Ты вот что, Матрена Дивеевна, оставь это… Налетишь на штраф. Из зарплаты зятя удержим. Слышишь?
— Не глухая, слышу. У меня к тебе еще дело есть, Фенюха, затем и пришла на ферму, тебя искала.
— Какое же дело? Говори.
— Оно у меня, дочка, такое, что при всех-то и не ска-
549 жешь. Ты, может, разрешишь старухе домой к тебе заглянуть ужо?..
— Приходи, ради бога.
— Спасибо, милая. Ужо наведаюсь. А нащет этого… — она оглянулась на телок, — вы зря на меня, зря обижаете… Для твоей же, Фенюха, бригады компл… компле… фу, нечистая сила… Как ты там ее назвала, не выговорю?
— Комплексная.
— Ну, ну. Для твоей же — бригады, говорю, старалась… боялась, что телки останутся яловыми… — И, кинув последний раз на девушку-зоотехника гневный взгляд, покинула ферму. Даже со спины было видно, что старуха покидает поле боя в гордом убеждении своей несокрушимой правоты.
«Скорее бы уж занятия в школе начались, — думала она по дороге домой, — укрылась бы там и глазыныш бы не показывала этим вот самым…»
Вечером, как и обещалась, Штопалиха пришла к Угрюмовой.
Феня была не одна в доме, а с Марией Соловьевой. Они только что помылись в бане и теперь пили чай. Мария, сообразив, что предстоит какой-то серьезпый разговор, сочла за благо оставить подругу одну, с глазу на глаз с вошедшей. Бочком, бочком она выскользнула из избы мимо чаявшей как раз этого Штопалихи.
— Ну, что скажешь, Матрена Дивеевна? — спросила Феня сухо, подрагивая по обыкновению ноздрями.
— Горе у нас, Федосья. Можно даже сказать, беда, и немалая, — начала Штопалпха, перемежая слова глубокими и тяжкими вздохами. На лице ее — всамделишная скорбь и одновременно покорность судьбе.
— Да ты присаживайся, — сказала Феня, пододвигая гостье стул. — Что же случилось?
— Достукалась моя-то…
— О ком ты?
— Надёнка-то моя, говорю, доигралась…
— Что с ней? — спросила Феня вяло, почти безразлично.
— Да что, Фенюшка, накупила несколько пачек лотерейных билетов, хотела автомобиль выиграть, а они все, как есть, нули. Матрац толечко какой-то надувной выпал на один номер…
— Ну и что?
— Как — что? Деньги-то колхозные, из кассы взятые. А когда теперя она их вернет, коли у нас ни копейки?! Нагрянет ревизия, а потом следствия разные, упрячут мою дуреху за колючу проволоку, как воровку. Где нам взять такие деньги? Нешто корову сгоним со двора, продадим?.. Ты, Фенюшка, наш бригадир, поговори с Виктором Лазаревичем, он тебя послушает, пущай придумает што, вызволит бабенку из беды…
Феня задумалась. Потом спросила:
— Сколько денег-то?
— Ой, дочка, страшно аж сказать. Четыреста рубликов!
— Дешево захотела твоя Надёнка приобрести «Москвича»!
Сказав это, Феня вышла в горницу. Вернулась с пачкой денег.
— Возьми, тетенька Матрена.
Потрясенная, Штопалиха хватила Феню за руку, собиралась поцеловать. Феня резко отдернула руку, сказала быстро, в смятении:
— Что вы, тетенька Матрена!.. Зачем это?.. Не смейте никогда этого делать!
— Ну, спасибо, родная наша!.. Вечно за тебя бога буду молить. Спасла дурную ее голову!.. Когда ж вернуть-то тебе их? — Она указала глазами на пачку.
— Когда будут, тогда и вернете.
34
Не только летом, но и по осени Феня любила ходить на дальние поля и возвращаться с них лесом. Тут хорошо и покойно дышится и думается, тут можно без помех прислушиваться и приглядываться к иной жизпи, непохожей на человеческую, не всегда понятной, а потому и тревожащей. Феня, например, очень любила животных, особенно диких. Домашние окружают сельского жителя от первого до последнего дня его пребывания на этом свете. Качаясь в зыбке, малыш уже мог видеть, как внизу, на полу, играет с колеблющейся тенью колыбельки котенок, а за окном, встряхнувшись шумно, оглашает
551 округу своим пронзительным криком петух, а рядом с ним одна из его многочисленных подруг деловито склёвывает с того же окна замазку. Выведенный или еще раньше вынесенный во двор ребенок мог сделать много открытий: навстречу ему непременно откуда-нибудь выкатится некое хрюкающее существо и, снедаемое любопытством, сунет в ребячьи ножонки свой холодный и твердый, как резиновая шайба, пятачок; увидит ребенок и корову, и теленка, и овец — увидит, подивится раз-другой, а потом так привыкнет ко всему этому, что перестанет и дивиться, и удивляться, ибо поймет: так было до него, так будет при нем, так должно быть всегда. Тот же петух или там курица будет рядом с человеком и весной, и летом, и осенью, останется с ним и зимою. Иное дело перелетпые птицы. Какое-то странное, чуть щемящее и неизменно новое чувство испытывала к ним Феня. Воробей, сорока, галка, ворона, синица — те, что зимовали с людьми, были не то чтобы безразличны ей, но они, вроде кур, были как бы домашними, прирученными, своими, привычными и потому не возбуждали так, не тревожили ни души, ни воображения. А вот скворец, соловей, чибис, цапля, дикая утка, журавль где-то пропадают с осени до весны, надолго покидают места, где вылупились из теплого яйца сами, вывели своих детенышей, — каково им расставаться с родным болотом, с вершиной дерева, где чернело сиротски, насквозь продутое, остуженное недобрыми осенними ветрами Гнездо! Куда и зачем они улетают? Разве боятся лютого холода в родимых краях? Но неужели крохотуля воробей выносливее коршуна или дудака?.. Зато своими прилетами и отлетами тот же коршун, скворец, жаворонок, дрофа ли как бы повторяли и усиливали новизну вечно сменяющихся времен года, сообщая им особую прелесть, неизъяснимую для человеческого сердца окраску: тревожно-сладостную в одном случае; смутнО-горьковатую, сеющую легкую, как паутинка бабьего лета, грусть, — в другом.
Часто думает об этом Феня, когда осенним, поскучневшим и ропщущим под холодными ветрами лесом идет по узкой тропе и когда откуда-то с немыслимых высот падают и сладкой занозой вонзаются в ее душу клики улетающих в неведомые края гусей и журавлей. Вот и нынче она остановилась, запрокинула голову в надежде отыскать прижмуренными глазами живые, стремительно убегающие куда-то клинья, ожерелья и длипные цепочки птичьих станиц. Бледнея, она страстно шептала:
— Милые вы мои, куда же?.. Зачем?
В таком-то томительно-щемящем настроении, выйдя из лесу, и оказалась она напротив Тишкиного дома, и лишь теперь по крикам, песням, вырывавшимся из всех открытых настежь окон и дверей избы, вспомнила, что у Не-пряхиных свадьба, что Тишка и Антонина выдавали замуж четвертую свою дочь, ту, что все в Завидове называли не иначе, как Верка-Недоносок. Кто-то выскочил на улицу — Феня не успела разглядеть, кто именно, — подхватил ее на руки и, хохоча, влетел с нею прямо к свадебному столу, являющему собою вид полного, но не законченного еще погрома: большая часть тарелок с закусками была опрокинута или сброшена под ноги. Выскочивший навстречу Фене хозяин, раскачиваясь, повел ее в передний угол, под образа, где полагалось сидеть почетным гостям. Не церемонясь, турнул оттуда Саньку Шпича, по привычке занявшего было красное место, будто смахнул его одной своей рукой, ею же налил Фене полный стакан, попросил, влажно сияя пьянорадостными глазами:
— Выпей, Фенюха, бригадирша наша дорогая!.. Поздравь молодых!
— Выпью, Тиша, как же можно, — сказала она и, поклонившись смутившимся малость молодым, выпила стакан до дна.
— Вот эт по-нашему! — взревел Тишка.
— Молодец, Фенюха! Не побрезговала нами! Пришла! Молодец! — прокричала и Антонина и сейчас же выпрыгнула на середину избы, двинула плечом замешкавшегося тут Апреля, подмигнула ему, схватила за руку и, охально осклабясь, визгливо затараторила:
Как дед бабку
Завернул в тряпку
И залил святой водой,
Чтобы стала молодой!
Апрель, потихоньку матюгаясь, вырывался из рук хозяйки, но на смену этой паре уже выходила Мария Соловьева, таща за собой по-медвежьи упиравшегося Колымагу. Мария, похоже, давно ожидала этой минуты и теперь, притопывая перед лесником, горланила во всю свою бабью мочь:
У нашего дяденьки
Две курочки рябеньки.
Одну держит на зарез,
На другую…
— Ого-го-го! — ревут мужики.
— И-и-и-их! — визжит Антонина, вновь выбегая на круг. — Дай ему жару, Машка!.. Крути окаянного… лесного лешего! И-и-и-их! — И пошла, пошла по избе, пол ходуном заходил под ее ногами.
Антонина, пытаясь вовлечь и полухмельную Феню в набиравшее силу свадебное веселье, таща ее за руку и приплясывая, приговаривала: