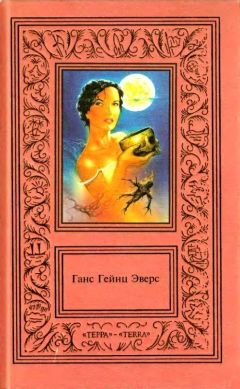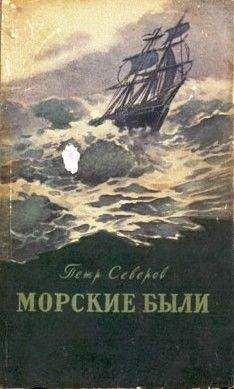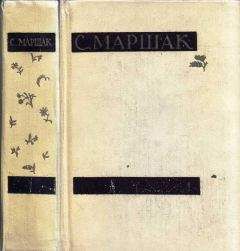Петр Северов - Сочинения в двух томах. Том первый
В тот чудесный вечер я, конечно, не думал, что и через долгие годы буду не раз возвращаться мыслью к нашей тихой беседе на взморье.
* * *Летом 1919 года на подступах к станице Прохладной терские белоказаки захватили в плен лихого красного конника Никиту Мазая. Умело и отчаянно дрался Мазай, срубил в единоличной дуэли искусного терского наездника в дважды выручал в ходе атаки своего командира — силача Планиду, но осколок гранаты сразил под Никитой скакуна, и в ту же минуту в сутолочной пыли над поверженным конником всплеснулся вражеский клинок и вывел грозный росчерк.
А все же Никита остался жив. Знал он, бывалый солдат, какова в бою цена одной секунды, и успел заслониться карабином, и сталь ударила о сталь, брызнув зеленой искрой; но не на радость — на свою печаль вырвал Мазай у судьбы это решающее мгновение.
Много полегло белоказаков у станицы Прохладной в том памятном бою; это было отборное воинство — краса зажиточных верхов Кубани, щеголи офицеры — кавалеры георгиевских крестов; холеные кулацкие сынки, которым, с их горами добра, недоставало еще власти и славы; профессиональные грабители, почуявшие поживу; холуи помещиков и куркулей. Когда, осмотревшись после боя, они подсчитали свои потери, — их волчья тоска не знала меры и ярость не ведала пощады: они добивали раненых красноармейцев и глумились над мертвыми. Никита Мазай понимал, что ему не пробиться к своим и, значит, не жить; он очень экономно расходовал последние патроны, отложив один для себя. Его решили взять живым, однако это было не так-то просто: белоказачий атаман не досчитался еще троих своих рубак. Но последнего патрона Мазай так и не израсходовал, от пулевых ранений в плечо и в бок изошел кровью и впал в беспамятство. Его схватили и поставили пред очи самого атамана, писаного красавчика в чине есаула, с тихими глазами фанатика и убийцы.
Красавчик есаул спросил:
— Какого рода-звания, солдат? Славно дерешься, и думается мне, что ты кубанец или дончак: видел я, как снял ты с коня моего любимого ординарца, а тот и сам умел рубить.
— Рода я красного, — сказал Никита. — Звания батрацкого. Может, на твоего батеньку-живоглота с детской поры спину гнул, но время расчета потребовало.
— Смелые речи ведешь ты, солдат, — сказал есаул, продолжая разглядывать Никиту с интересом. — Злые речи ведешь и похабные. Только я понимаю: ты еще от боя не остыл, а поостынешь — одумаешься.
— Э, не тяни ты канитель, гадюка шелковая, — гневно ответил ему Никита, — кончай.
Но есаул не торопился: за каждым словом и за каждым его движением напряженно и подобострастно следила поредевшая свита, готовая превознести любое решение атамана как единственно верное и мудрое. Кроме того, у атамана были и другие причины продлить допрос: он еще не встречал человека, который почел бы идею выше личного благополучия и соблазнов собственности. Если этот красный был таким человеком — его следовало испытать, сломить и унизить. Если же он поддастся на посулы — в коннице атамана отчаянные рубаки были нужны. И атаман сказал, протягивая к лицу Никиты белую холеную руку:
— Видишь это колечко на мизинце? За него дадут добрую хату, да еще пару лошадей и пару волов. Я прощу тебе ординарца и отдам это кольцо, если ты вступишь в доблестное воинство независимой Кубани.
Пленный не скрыл удивления и даже подался вперед.
— Это что же, государство такое, новое, а?
— Да, — твердо сказал есаул, приосаниваясь. — Независимая Кубань. Я — член ее рады.
Мазай, казалось, тотчас утратил интерес к есаулу.
— Ну, и дурак же ты, атаман. Круглый дурачина! Экую державу кулачье придумало — Кубань!
Голубые глаза есаула стали еще ласковей и тише — он словно не расслышал оскорбления.
— А прежде, чем вступить в доблестное воинство Кубани, — продолжал он невозмутимо, — ты должен доказать, что православный, и трижды осенить себя крестом. Говори: отрекаюсь от красных бунтовщиков и смутьянов и присягаю… Ты почему же не крестишься, чертолом?
— Была бы у меня сабля в руке, — сказал Никита, — я бы тебя, шута горохового, перекрестил!..
Атаман небрежно кивнул своим.
— Ежели рука забыла крестное знамение, нужна ли она, грешная? Отрубите ему руку.
Потом, глядя, как бьется и корчится Никита на земле, атаман молвил с ласковым упреком:
— Вот как оно и случилось, голубь, что сам ты и накликал беду. А ведь мог бы одуматься и словом не дразниться. Может, покаешься перед доблестным воинством на прощание, и тогда я избавлю тебя от муки?
— Одного я хотел бы в последнюю минуту жизни, — собрав остаток сил, прохрипел Никита, — чтоб ты захлебнулся кровью моей, подлый. Мне и видеть тебя невыносимо, масляный гад…
И опять атаман улыбнулся блаженной, бестрепетной улыбкой.
— Вы слышали, станичники? Он, бедный, не может видеть. Что ж, облегчим ему душу, братцы: выколите ему глаза.
Так у станицы Прохладной, в степи, умер на закате в великих мучениях лихой красный конник — Никита Мазай, и, мстя ему, гордому, даже за чертой смерти, атаман приказал разровнять могилу, чтобы людская молва — птица степная — не подхватила имя и слово храбреца на крыло.
Но кому дано заглушить гром, или остановить ветер, или зарыть в землю вместе с прахом воина народную молву?
Пронеслась она от Прохладной — до Ейска и до Майкопа, до Темрюка и до Тамани, весть о той лютой казачьей потехе в степи, и, как пророчество, стали известны в народе предсмертные слова Мазая:
«И моя отсеченная рука ляжет на весы правды. Атаманы-горынычи, поберегитесь!»
Где-то у плавней Приморско-Ахтырска, на болотной окраине станицы Ольгинской, в старой и ветхой батрацкой хатенке, где ни запаха хлеба, ни света, ни тепла, отыскала наконец та молва горемык, кому она больше других адресовалась, и зарыдал, и рванул на груди косоворотку, и рухнул наземь немощный, седовласый отец Никиты Мазая, и безутешно заплакала молодая солдатская вдова, а самый наименьший в семье работник, пастушок Макар, притих, затаился в уголке и стиснул кулачонки.
В Ольгинской хозяйничали белые. На широком дворе у дома, где недавно размещался станичный Совет, контрразведчики воздвигали виселицу. На свободной площадке, рядом с виселицей установили козлы для экзекуции подозрительных и неблагонадежных. С утра и до вечера сюда волокли со всей округи арестованных мужиков, вольнодумных сельских интеллигентов, беспаспортных бродяг, сирую голытьбу без роду, без племени, занесенную в кубанские просторы невиданной круговертью гражданской войны.
Кого-то за какие-то провинности нещадно секли на козлах шомполами; кого-то тащили на виселицу под угрюмую, барабанную дробь; ветер медленно кружил трупы повешенных и доносил то всхлип гармошки, то выстрел, то обрывок пьяной песни, — будто в беспамятстве, гуляла и плакала станица под властью ошалелого кулачья.
Судьбы человеческие неисповедимы, и не чаял, конечно, Никита Мазай, умирая, что единственного его сынишку, маленького Макара, словно в насмешку над светлой мечтой отца, отдадут в услужение к хуторянину-скопидому, к одному из тех, кто стрелял и пытал красных.
Поначалу толком и не знал Данила Черныш, что за батрачонок хозяйничает на его дворе, ходит за коровами, ранней зорькой убирает мусор, поит лошадей, кормит птицу и обитает на усадьбе неприметно, до самых заморозков ночуя на сеновале. Старательный мальчонка даже нравился Чернышу, и, памятуя истину, что от хозяйского глаза и конь добреет, Данила иногда отсылал батрачонку остатки ужина или обеда. Но от хутора Бейсуг до станицы Ольгинской — рукой подать, а в Ольгинской многие знали Макарку — сына казненного большевика.
От соседей-ольгинцев и стала известна Чернышу родословная маленького Макара, и не сдержался Данила, словно бы счет времени в ярости потерял, стеганув мальчугана кнутовищем, скрипнул зубами:
— Подобрался, гаденыш… изловчился!
Счет времени Даниле никак терять не следовало, слишком опасной была бы такая забывчивость: календарь уже показывал год 1924-й, и от белого воинства, от кулацких шаек, с их бешеными атаманами, не осталось и следа, а отсеченная рука Никиты Мазая и действительно легла на весы правды.
Как видно, счастье Черныша было в несчастьи маленького Макара. Данила понимал, что мальчонка беззащитен: дед его, тоскуя по сыну, умер в полубезумии; мать Макарки ушла на чужое хозяйство, будто в неволю, и второй супруг ее, домовитый мужик, запрещал ей видеться с бродяжкой сыном. Кто мог бы вступиться за пастушка, — ольгинские сельсоветчики и комсомольцы, но мальчонка еще не знал к ним дороги.
Все же Черныш опасался: а вдруг мальчонка пожалуется, вдруг надоумят «добрые люди»? Тогда смотри да оглядывайся, из-за какого-то пустяка (подумаешь, ну и стегнул в шутку прутиком!) старые дела Черныша, тяжкие дела, меченные кровью, могли бы всплыть ненароком из ненадежного забвения и могли призвать самое страшное — судный час.