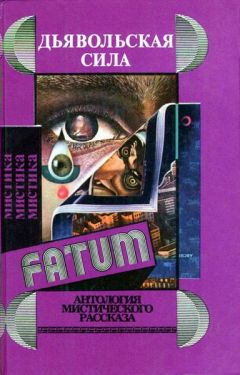Николай Шундик - Белый шаман
Ирину Николаевну бесила непонятная власть Журавлева над нею. «Вечно чувствуешь себя школьницей под его взглядом. Не буду я ходить перед ним на цыпочках». Жестикулируя преувеличенно раскованно, почти развязно, Ирина Николаевна полистала журнал мод, бросила его на диван, прошлась по комнате.
— Нет, в самом деле, вы что, с ума посходили? Вооружили детишек карабинами. Да они перестреляют друг друга! — Остановилась перед зеркалом, сердито взбила кудряшки. — Я вот в районо напишу.
— Чем недовольна эта сварливая женщина? — чуть насмешливо спросил Пойгин.
Ирина Николаевна знала немного чукотский язык, поняла вопрос Пойгина. Повернувшись к мужу, она сказала с притворно сладкой улыбкой:
— Пойдем, мой миленький, домой. А то тут тебя еще угораздит надраться. Наугощаешься…
Нетрудно было заметить, как потемнело лицо Тильмытиля, но он сдержал себя и шутливо спросил:
— Это на каком языке… надраться? Просвети темного чукчу…
Ирина Николаевна подошла к мужу, взъерошила его волосы:
— Не такой ты уж у меня и темный…
— Ну, ну, понимаю, — продолжал шутить Тильмытиль, — так, слегка темноват местами, как нерпа пятнистая…
Пойгину не нравилась эта женщина, он уже готов был уйти к себе, но пришла жена директора школы, Татьяна Михайловна. Она тоже была учительницей, преподавала английский язык. Хрупкая, с темными задумчивыми глазами, она выглядело намного моложе своих лет. Едва приметно кивнув мужчинам, подошла к Кэргыне, вручила ей сверток.
— Это кое-что для будущего малыша.
Ирина Николаевна почти выхватила из рук Кэргыны сверток, развернула его на кровати.
— Какая прелесть! Распашоночки да пеленочки. Господи, как все это знакомо и дорого…
И осветилось лицо Ирины Николаевны таким светом, что всем увиделось: это женщина, это мать. «Нет, есть в ней, есть что-то в этой чертовке, — подумал Александр Васильевич, — и Тильмытиля можно понять».
Теперь оставалось дождаться жены Чугунова. Маргарита Макаровна переступила порог с хохотом. С нее снимали заиндевелую оленью доху, а она не могла унять смех.
— Ну и послал мне бог пациента!
— Опять Вапыскат, что ли? — не без досады спросил Чугунов.
Степану Степановичу было известно, что Вапыскат во всей больнице самым главным лицом признавал врача Чугунову. Не было недели, чтобы он не появился на пороге больницы и не потребовал: «Пусть мне потрогает живот Ратватыр». Так он назвал Маргариту Макаровну, что в переводе означает Самострел. Чугунов умирал от хохота, обыгрывая новое имя жены. «Вот уж что верно, то верно — Самострел. По себе знаю, как глянул в ее глазищи, так и лег, убитый наповал, будто действительно ненароком набрел в тайге на самострел».
— Позвал меня Вапыскат в свой замок, — принялась рассказывать Маргарита Макаровна, уняв смех. — С мальчишками просьбу передал. Пусть, говорит, принесет мне касторки. Ну, я взяла флакон на всякий случай и на всех парах к нему. Вижу, у костра сидит, качается и песню поет. Думаю, уж не хватил ли чего горького мой дорогой пациент?
— Он мухоморы глотает, — усмешливо сказал Тильмытиль. — Наглотается и вступает в беседу с верхними людьми… Иначе говоря, с покойниками… Так ему кажется.
Маргарита Макаровна взмахнула руками, как бы прогоняя нечистую силу:
— Господи, страх-то какой! — уселась на стул. — Так вот, спрашиваю у него, что болит, где болит. А он что-то бормочет, никак понять не могу, на чукотский-то разговор я туговата. Тут мальчишка явился, который позвал меня к больному, объяснил… Старик, оказывается, просил картошки, а не касторки, малость перепутал слова.
И опять рассмеялась Маргарита Макаровна. Рассмеялись и все, кто слушал ее.
— Я его как-то картошкой угостила у нас в больнице, когда дежурила. Вот и понравилась ему. Когда разговорились, мальчонка пояснил, что он картошку мою, бульбу вареную, посчитал за самое лучшее лекарство из всех, какими его пользовали. Совсем, говорит, поправился, пойду на медведя. — Помолчав, тяжко вздохнула. — Так ему там холодно и неприютно, в его шалашике. Завтра принесу картошки, сварю на его костре, самого научу варить. Внушил себе, что целебней нет ничего на свете. Жалко старика…
— Да, теперь жалко, — задумчиво промолвил Тильмытиль, прогоняя обычную свою усмешку. — А когда-то он мне смерть предрек…
У Маргариты Макаровны расширились и без того огромные глаза:
— Смерть предрек?
— Да, было дело. Черный шаман смерть предрек, а белый — жизнь. Такой был поединок двух шаманов, что всю тундру лихорадило. Вот он — белый. Верный друг моего отца, да и мой второй отец.
Пойгин почувствовал на себе взгляды гостей, выходя из задумчивости, осторожно поставил блюдце на стол и сказал:
— Пью чай и о Линьлине думаю. Умер волк. Как старый человек умер… Показал бы ты, Антон, кино про Линьлиня…
И Журавлев тоже попросил, приложив руку к груди:
— Давай, Антон Артемьевич, прокрутим! С удовольствием еще раз посмотрю…
13
Они были так самобытны в своей естественной сути — человек и прирученный волк. В проявлении любви друг к другу, преданности они были сдержанны, очень сдержанны, однако это была настоящая любовь и настоящая преданность. Так это видел автор киноленты Антон Артемьевич Медведев, так воспринимал это Александр Васильевич Журавлев.
Антон успел заснять Линьлиня зрячим. Надвигался на зрителя идущий передовиком в упряжке прирученный волк. Заиндевел его лоб, язык высунут, из пасти вырывается горячее дыхание. И глаза, удивительно осмысленные глаза, смотрят с экрана.
Остановилась упряжка. Крупные, жилистые руки прикасаются ко лбу волка, сметая с него иней. Волк благодарен. Однако он не позволяет себе никаких движений, тем более не опускается до того, чтобы завилять хвостом. Он сдержан, он — весь достоинство. А вот человек кормит волка, по-прежнему видны только руки. Деликатно, без малейшего проявления нетерпения берет волк из рук человека кусочки мяса. И, словно в укор младшим братьям волка — собакам, особенно заметно, как суетливо они ловят на лету мерзлые куски мяса, как, жадно давясь, грызут его, как нетерпеливо ждут следующего куска. Волк сидит на задних лапах чуть в стороне и наблюдает за этой непристойной картиной с угрюмым укором и даже, кажется, с презрением.
Между собаками завязывается драка. Волк недоволен. Он какое-то мгновение наблюдает, словно надеясь, что младшие братья еще образумятся, потом решительно ввязывается в свалку: одного драчуна схватил за загривок, отшвырнул в сторону, другого потеснил, третьего потащил за хвост. Драчуны разбегаются. Волк усаживается в том месте, где только что была сплошная коловерть из дерущихся псов, оглядывает провинившихся хотя и строго, но умиротворяюще и, кажется, даже немножко снисходительно.
Потом те же руки надевают на волка упряжь; уверенны, однако не суетливы их движения, и никаких поглаживаний по голове или почесываний за ушами. Вот проверен вертлюг, вдета костяная продолговатая пуговица в петлю потяга. Волк, как всегда, впереди. Есть упряжки, где к потягу пристегиваются два передовика. Здесь один. Это волк Линьлинь. Он вожак и властитель упряжки. Собаки, поскуливая, смотрят на вожака-волка, совсем как перед человеком виляют хвостом, подобострастно выражают свою готовность тянуть нарту сколько хватит сил. Волк пока даже не смотрит на младших братьев, он уверен, что его не посмеют ослушаться, по крайней мере, до той поры, пока не устанут. Вот тогда он будет оглядываться, и плохо придется тому псу, который вздумает поослабить постромки своей упряжки. А сейчас волк весь в думах о предстоящем пути. Он еще не знает, куда направит его хозяин, но готов к пути дальнему и нелегкому. И пусть будет спокоен человек: волк вознаградит его за сдержанность, уравновешенность, за уважительность к стае собак и к ее вожаку. Да, незлобив человек, но и в доброте своей не угодлив, не суетлив, и это превыше всего ценит волк. Именно этим в конце концов покорил его человек, покорил, но не унизил…
Так кто же он, этот человек, кому принадлежат эти большие, жилистые руки с такими уверенными и точными движениями? Вот эти руки набивают трубку. Лицо человека по-прежнему пока еще скрыто. Но по рукам его видно, как он задумчив. Да, руки тоже думают…
А вот возникает и лицо человека. Сначала — одни глаза. Спокойные, что-то пристально разглядывающие вдали и в то же время внутри себя, где живут душа и рассудок, глаза в густой сетке подвижных морщинок. Щеки чуть ввалились под скулы, отчего лицо кажется тонким, аскетическим. Редкие усики, редкая бородка. Рот жесткий, волевой. Во рту неизменная длинная трубка с медной чашечкой на конце. К трубке подвешен небольшой кисетик из замши, железный коробок для спичек, железный коготь для выскабливания нагара.
Курит человек трубку, смотрит вдаль и внутрь себя. Не просто курит человек, а думает, думает, думает. И дымок из трубки такой же бесконечный, как бесконечны его думы; и, может, извивы дыма так же неожиданны, как неожиданны повороты мысли человека. О чем он думает? Возможно, и о тебе, о зрителе, которого мог и не знать. Он думает о том, чтобы ты был здоров, как и все хорошие люди, пребывающие в этом мире, чтобы тебя никто не обидел, чтобы не повредило тебе злое начало. Он думает о земле, о небе, о море, о том, что его душа слита с ними, что мироздание и он — это одно целое и солнце не только над его головой, но и в нем самом.