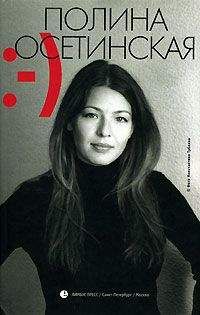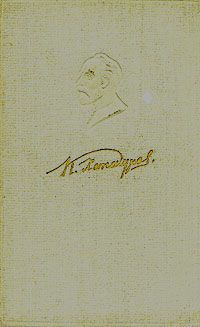Инал Кануков - Антология осетинской прозы
Каждое утро он выгонял ягнят на пастбище, усаживался на камень и брался за дело. Ягнята… Арифметика… Посох… Когда Дзиу решал задачи, он забывал о ягнятах, когда вырезал узоры — забывал об арифметике. Он точил и правил нож о гладкие щеки валунов, резал твердое ореховое дерево, снова точил и правил, на ладонях его вздувались кровавые волдыри, а он все резал, резал и резал.
Волдыри заживали, превращаясь в мозоли, а на посохе, на верхнем конце его, появились три человечка в папахах, черкесках, с кинжалами на поясах. Человечки хмуро воззрились в пространство, а под ними стали вырисовываться три скакуна. Кони не умещались в окружность посоха, и Дзиу расположил их по спирали: первый человечек стоял на спине верхней лошади, та, в свою очередь, упиралась копытами в круп второй, а вторая касалась копытами хвоста третьей.
Дзиу с удовольствием поглядывал на свои ладони, — они становились все мозолистее и шершавее, а внизу под человечками и скакунами возникли очертания сторожевых башен, точно таких же, как те, что стояли на уступе скалы высоко над пастбищем. Дзиу сначала вырезал их контуры, потом глубокими насечками изобразил мощную кладку крепостных стен, потом в стенах проковырял узкие бойницы.
Ниже, под сторожевыми башнями, появились три тоненькие женские фигурки в старинных осетинских платьях. Бархатные шапочки с золотым шитьем, серебряная филигрань нагрудных застежек и поясов — Дзиу пытался сделать все, как положено, но это была слишком трудная и кропотливая работа. Провозившись без толку два дня, Дзиу оставил женщин без украшений. Зато внизу под их фигурками он вырезал три котла, похожих на тот медный, клепаный, в котором его мать варила к празднику пиво.
Ягнята пощипывали траву, пили воду из родников, блеяли и подрастали, а Дзиу учил арифметику и радовался, глядя на посох, украсившийся тремя тихими, понурыми овечками. Теперь оставалось еще вырезать трех пастухов под овечками, трех пастухов в косматых папахах и прямоугольных бурках. И снова Дзиу точил и правил нож, снова резал твердое ореховое дерево, точил и правил, а время летело стремительно, день за днем, один безоблачный день за другим.
А однажды над пастбищем появилась огромная стая ворон. Размеренно каркая, неторопливо ворочая тяжелыми крыльями, вороны кружили низко над землей, и по траве, по каменистым откосам тревожно метались их черные тени. Задрав головы, глядя в потемневшее небо, жалобно кричали ягнята, и Дзиу вспомнил вдруг, что вороны собираются в стаи, когда кончается лето, когда близится осень.
Вороны, будто вспугнул их кто-то, шарахнулись вверх, к сторожевым башням, живою, волнующейся тучей повисли над ними, загомонили, снижаясь, разом посыпались вниз, садясь к подножью полуразрушенных крепостных стен, скрылись среди камней, исчезли, а Дзиу, отложив в сторону нож и посох, встал и огляделся.
Все было, как прежде: желто-зеленая трава на склонах, яркое небо над скалистым хребтом, блистающие ледники вершины Адай-хох, бурлящая внизу река. Но среди трав уже редко проглядывали цветы, скалы чуть потемнели, припорошенные летней пылью, ледяные шапки вершин сдвинулись чуть ниже обычного, в голосе бурлящей реки поуменьшилось радости, поприбавилось рассудительности, а ветер, сквозной ветер, летящий в ущелья, уже таил в себе запах близкого снега.
Надо торопиться, думал Дзиу, надо торопиться.
Всю последнюю неделю лета он сидел, не разгибаясь, резал фигурки пастухов — папахи, бурки, глаза, носы; подправлял сделанное раньше — трех человечков с кинжалами, трех скакунов, трех женщин в старинных платьях. Он хотел закончить резьбу тремя воронами с раскинутыми крыльями, но на ворон уже не оставалось времени.
Тридцать первого августа посох был готов. Дзиу отшлифовал его наждачной бумагой, протер полями своей войлочной шляпы, смазал подсолнечным маслом, и ореховое дерево потемнело, матово засветилось, гладкое и чистое. Вечером, пригнав ягнят домой, Дзиу подошел к отцу, остановился, оперся о посох, показывая его во всей красе, и улыбнулся с горделивой застенчивостью мастера.
Но отец не заметил трех человечков с кинжалами, трех скакунов, трех женщин в старинных платьях и трех пастухов в лохматых папахах и прямоугольных бурках.
— Где седьмой? — спросил он, глядя за спину сына.
— Что? — удивился Дзиу.
— Седьмой, — повторил отец.
Дзиу обернулся, и удивление его сменилось тоской — он пригнал с пастбища шесть ягнят, шесть, а не семь.
— Не знаю, — зевнув от волнения, сказал он, — не знаю.
— Идите ужинать, — тихо позвала мать.
— Не знаешь, потому что не умеешь считать, — сказал отец.
Дзиу обиделся. Он умел считать — раз, два, три, четыре — хоть до миллиона. Ему не давалось деление, вот что ему не давалось! И умножение тоже.
— Идите ужинать, — вздохнула мать. — Идите, — сказала она и осеклась, потому что муж ее повернулся круто и, хлопнув калиткой, ушел со двора. Дзиу, потоптавшись в нерешительности, бросился за ним. Мать подняла с земли забытый сыном посох, вытерла его передником, отнесла на веранду и спрятала там за старый шкаф.
А Дзиу трусцой бежал за отцом, спорым шагом поднимавшимся в гору, к поляне, на которой его сын пас сегодня ягнят. Уже стемнело. Вечерний туман обвис клочьями на гребнях скал, улегся в расщелины, в небе светились крупные, ясные звезды, где-то во тьме горестно всхлипывали ночные птицы.
— Борик, Борик, Борик! — звал отец потерявшегося ягненка. — Борик, Борик! — останавливался, прислушивался, шел дальше — в гору, вниз по склону, по бездорожью, по росе — здесь ягнята паслись вчера, здесь третьего дня прятались в пещере от дождя, сюда Дзиу гонял их на водопой. — Борик, Борик, Борик! — слышалось сквозь бормотанье ручья.
С тех пор, как они вышли из дома, отец ни разу не взглянул на сына, и Дзиу, рысцой поспевая за родителем, зорко посматривал вокруг, надеясь первым увидеть ягненка и понимая, что это снимет с него часть вины. «Почему всех баранов в Осетии называют Бориками? — походя размышлял он. — Надо каждому давать свое имя». Запыхавшись, он то и дело облизывал пересохшие губы, отирал ладонью потный лоб, а с гор, с ледников вдруг пахнуло холодом, дунул ветер, гоня мутную пелену облаков, гася одну за другой звезды.
— Борик, Борик, Борик! — звал в кромешной тьме отец.
— Мме-е-е! — заблеял Дзиу, надеясь, что ягненок отзовется на родной звук.
— Ты волком завой, — посоветовал отец, — может, он перепугается и сам побежит домой.
Дзиу глянул на село. Отсюда, сверху, едва виднелись темные крыши и темные стены домов. Село казалось очень далеким и необитаемым, и только одно окно светилось в ночи — это мать ждала мужа и сына.
Утром она дала Дзиу белую рубашку, он положил в портфель чистые тетради и новенькие учебники, сунул рядом с ними свой прошлогодний долг — тетрадку с теми задачами, которые решал летом, и пошел в школу. Он пропустил мимо ушей поздравления учительницы по поводу начала учебного года, сдал на проверку свою арифметику, отсидел кое-как четыре урока и, когда раздалась жизнерадостная трель последнего звонка, первым выскочил из-за парты. Прибежав домой, он наскоро поел, переоделся и отправился — Борик, Борик, Борик! — в горы на пастбища.
Сентябрь выдался теплый, солнечный, и Дзиу еще не раз выходил на поиски, но напрасно — Борик как в воду канул, как в воду.
Слоняясь по горам и размышляя о пустоте и печали жизни, Дзиу забрел однажды в лес, шел, шел и остановился, заметив на обочине, возле тропы фиолетовые шляпки сыроежек. Он постоял немного, подумал, потом, будто осенило его, сорвал гриб, второй, стал собирать — опята, маслята, зеленые моховики — все, что под руки попадалось. А вечером, когда они с отцом уселись за стол в ожидании ужина, Дзиу сказал, как бы взвешивая:
— Один килограмм грибов свободно заменяет килограмм баранины.
— А шкура? — поинтересовался отец.
— Что? — не понял Дзиу.
— Чем ты заменишь шкуру?
Дзиу опустил голову.
Он опустил голову, но решения своего не изменил. Шкура шкурой, а мать все жарила и жарила грибы, собранные сыном на лесистых склонах гор. Грибы на завтрак, на обед, на ужин, будто ничего другого в доме не было.
— Все! Не могу больше! — взмолился в конце концов отец. — Хватит!
Мать улыбнулась, убирая со стола сковородку с грибами, и Дзиу понял, что неприятности кончились и заключен мир.
А солнце светило весело и радостно, ни облачка в чистом небе, ни пятнышка, и Дзиу не размышлял больше о пустоте и печали жизни, а считал дни, оставшиеся до праздника Ногхор. И виделось ему то сиреневое утро, когда они с отцом выйдут из дома, оседлают коня, сядут на него вдвоем — отец впереди, Дзиу сзади — и поедут в селение Хид.
Он каждый день думал об этом, а дней оставалось все меньше и меньше, и думалось ему все приятнее, и однажды, размечтавшись на уроке, он даже цокот копыт услыхал, цокот копыт и праздничные песни слышались ему, а все, что звучало рядом, — скрип парт, голоса, шелест страниц — слилось в приглушенное невнятное жужжанье.