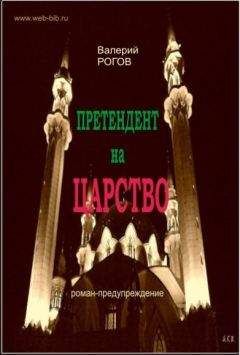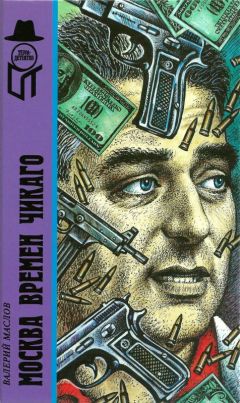Валерий Рогов - Нулевая долгота
Нет, мы все же были другими, думает он. Мы уходили сознательно. Мы и на день задержаться в Еропкине не хотели. Конечно, другие времена были, иное умонастроение. Что мы заявляли? Мол, что, мы хуже городских? Мол, что, мы недоразвитые, чтобы в колхозниках вековать? Пусть те остаются, кто поглупее. Но и те, кто поглупее, тоже уходили. Разными путями: одни — через армию, другие — по оргнаборам…
А что же Горесветкин, Игнатий Феоктистович, знаменитый на весь район Упрошайлович? Ох как он крутился вокруг нас! Он и в школу захаживал, и учителей наставлял, и вечерами в избы заглядывал, на совесть родительскую давил, светлые дали предсказывал — ничто не помогало. А ведь действительно, какие ныне заработки на селе! Разве можно было т о г д а в такое поверить? Ни за что!
Почему же Петька остался? Наверное, был младшим в семье. По традиции и остался. Но, наверное, к земле больше привязан. Сам себе пуповину не резал. Это делает председатель Бубнов. Который торопится. Ему ведь надо побыстрее побеждать. А значит: подчинись, согласись, сполни… Зачем ему в Петькиной душе копаться? Зачем ему знать, ч т о Петьке не нравится в колхозе? Нарушаешь — вон! Мне, мол, все права да́дены. Всю политику понимаю. А ты — пьянь, разгильдяй! Но вот такого-то о ч е р е д н о г о «обвинителя-воспитателя» Петька и не приемлет. Да и любого другого, который не увидит в нем ч е л о в е к а з е м л и. Личность! Причем н а р а в н ы х ответственного за судьбу колхоза. Да, на равных!.. А пока он протестует: наплевательским трудом, бесшабашностью. Выходит, крутые меры вредны? И Горесветкин больше прав, чем Бубнов? Вернее, большего может добиться. Он все-таки к душе апеллирует, к совести. У него бы Петька в лучших ходил!..
Колядкин быстро переворачивает машинописные листы сценария, ища сцену ухода Петьки из деревни. Он так поглощен проникновением в сценарные образы, что не заметил, как кончился дождь, как приподнялось, посветлело небо, как примчался откуда-то ветер. Он даже не слышит, что нижняя сухая крона дуба мягко скребется, будто ветхая ржавая кровля. Колядкин весь сосредоточен в себе. Его объяло, изолировало, поглотило нечто эфемерное, импульсивное, ускользающее — творящая мысль!
Он обязательно убедит Понизовцева расширить образ Петьки. Сценарист не прав. Он дает Петьку штришком, в противовес главному герою. Более того, как противника. Но разве Петька п р о т и в н и к?! Разве его изгонять, искоренять надо? Как несознательный элемент? Но разве Петька — не сознающий всего того, что происходит? О нет! Петька — значительно сложнее, чем представляют его бубновы. Он — трагичный и одновременно светлый образ. Как сам вечный наш крестьянский вопрос!
Сцена прощания Петьки с матерью, думает Колядкин, должна быть пронзительно трогательной. Она всхлипывает у него на груди, все просит: «Не забывай меня, сынок». А он гладит ее по седой голове, как невесту, и его взгляд — далекий, задумчиво-печальный. Вся чистота его души отражается в спокойном, ясном лице: он смирился со злой судьбиной. Но вот он идет по деревенской улице — куда? зачем? почему? — и лицо меняется, мрачнеет; в глазах появляется мутная злоба; он в бешенстве бросается к председательской конторе и в остервенении гаечным ключом, который всегда при нем, начинает бить стекла. А потом, сотворив зло и зная это, во весь дух мчится за околицу, оглядываясь, уверенный, что за ним гонятся. Но — никого! Он — злой, мстительный Петька — и э т и м никого не удивил! Он никому не нужен. Он уже вычеркнут…
И вот тут, думает Колядкин, необходима еще одна, завершающая сцена. Петька сидит у ручья, смывая кровь с пораненной стеклом руки; сердито взглядывает на деревню, шепча ругательства. И вдруг начинает всхлипывать — беспомощно, как ребенок. Он растирает по лицу кровь и слезы и плачет, плачет в безнадежной покинутости — открыто, навзрыд. Куда делся ухарь-тракторист? Да и о чем он плачет? О чем ведает обнаженная душа его? Ему жалко все! Ему обидно за все! За свою поломанную жизнь, за несчастную старость матери… Он понимает, вернее, чувствует, что навсегда кончилось что-то такое важное, такое близкое, такое долгое, тянувшееся от века к веку… То, чем он будет мучиться всю оставшуюся жизнь… Ему невыносимо горько, и он плачет, плачет…
И Колядкин начинает испытывать ту же горечь, ту же невыносимость: он проник в Петькину душу! Он слился с ней! И он уже сам плачет — естественно, безудержно, будто не с Петькой, а с ним все это случилось. И зрители, те же Петьки — в Москве или где-либо еще, — обязательно поймут, обязательно почувствуют эти праведные слезы о покинутой сельской родине…
Колядкин устал. Он больше не может работать. Он вытирает платком глаза, суеверно стучит три раза в ствол дуба и молитвенно шепчет просьбу, как когда-то учила его славная тетушка Прасковья-добруша-Никитична:
— Да помоги мне, сила небесная, исполнить сей образ. Чтобы донести его в мир таким, каким он представился в мыслях. Жертвую главной ролью. Жертвую! Во имя высшей правды. Чтобы возбудить души, дать им прозрение…
Колядкин у ж е знает, что в фильме Понизовцева «Обретение» ему предначертано все же играть тракториста Петьку. Тетушка учила искренне просить у таинственной силы то, что желаешь, и обязательно жертвовать чем-то, не менее дорогим. Тогда все сбывается. У Колядкина неоднократно так бывало. Не получалось лишь ни разу в театре, где все подчинено воле Рюрика Михайловича. Но в данном случае Гартвин ни при чем, и, значит, все сбудется!
Вот почему Колядкин у ж е все знал, не зная еще ничего, о том, что происходило на киностудии в данное время. Он знал, что ему предстоит играть Петьку, но это теперь было и его естественным желанием. И он у ж е знал, что образ Петьки в его исполнении станет художественным откровением, а кроме того — благоприятным переломом в его пока неудачливой актерской судьбе.
6. Опята
Колядкин с удивлением вспомнил, что еще и не думал собирать грибы. Он тут же углубился в лес, не сомневаясь ни на миг, что быстро наполнит лукошко опятами. Ему теперь во всем будет везти, радостно сознавал он. И действительно, в каких-то двадцати шагах от опушки на крошечной поляне, размером с комнатный ковер, возвышался трухлявый пень, обсыпанный опятами, как ржавое днище корабля ракушками. Колядкин аккуратно собирал склизкие палевые грибки, часто отдирая их гнездами с тонким слоем сыпучей коры. Особенно те, которые были крошечными, как гвоздики.
Через полчаса его плетеная корзинка была полна доверху и он задумался: что делать? Возвращаться в Москву? Но время лишь приближалось к полудню, да к тому же распогодилось. Ветер куда-то угнал хмарь, небо засинело, по нему низко плыли серые обрывки туч. Солнце сияло в последней осенней щедрости, серебря мокрую листву. Было таинственно-тихо без птичьих голосов, томительно красиво.
Возвращаться в Москву?.. Но что ему там делать, в их малогабаритной квартире, наполненной совсем другими заботами. В ней царствуют не его интересы, а школьные дела двух дочерей да домашние хлопоты жены. У него-то и места постоянного там нет. Смешно сказать, разучивать роли приходится в ванной комнате; ночью — на кухне.
Впрочем, когда завод им с Тамарой давал квартиру, у них и детей еще не было, да и никто не ведал о его творческой судьбе.
А кого сейчас это заботит? Гартвина? Нет, только не Рюрика Михайловича. По его системе и блага получают согласно месту в «пирамиде». Хотя он уже пять лет в первоочередниках на жилье, но не получит, нет, не получит…
Отсюда и разлады с Тамарой. На заводе им давно бы уже дали трехкомнатную. Видно, опять от завода и получат. Но — на окраине, там теперь завод строит. А как же ему ночью со спектаклей возвращаться? В театре — это учитывают, да что толку? Потому-то и приходится ему репетировать, читать, думать в ванной, на кухне, и лишь в лучшие свободные дни — на природе. Он привык. Да и что поделаешь?..
7. Лестница
Он стоял на кирпичных глыбах взорванного барского особняка. Ветер за длинные годы нанес земли, и из щелей меж глыбами тянулись тонкие березки. Когда-то, сразу после войны, еропкинские колхозники решили разобрать пустующий особняк на кирпичи и построить коровник. Но ничего из этого не получилось: особняк возводили, как церковь, на белковом замесе. Раздосадованные и разозленные солдаты минувшей войны, у которых в этом деле верховодил Афоня-бригадир, отец Колядкина, поступили решительно и просто: взорвали особняк! Рассуждали так: мол, хоть кирпичный щебень пойдет в фундамент коровника. Но барский особняк развалился капризно на неподъемные глыбы. И тогда на него взяли да плюнули — только и всего! А коровник соорудили из бревен разобранных личных сараев. Но и он оказался неудачливым — вскоре сгорел…
Далекий царский вельможа ставил свой небольшой, но мощный, как крепость, сельский дом на высоком крутобережье реки Торьва. Из окон классически простого особняка с четырьмя колоннами открывался удивительный вид. Внизу лежала плоская луговая долина Торьвы. Речка со склоненными старыми ивами, будто укутанная в одежды, своевольно извивалась к дальнему крутобережью, где располагалось Еропкино. А прямо, за просторной речной луговиной, начинались холмистые дали — поля с перелесками. Вечно смотри — не устанешь, не насмотришься.