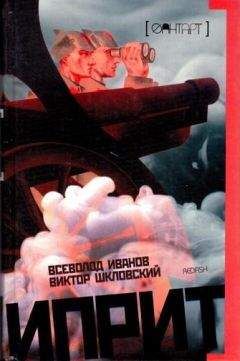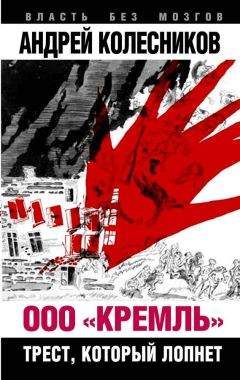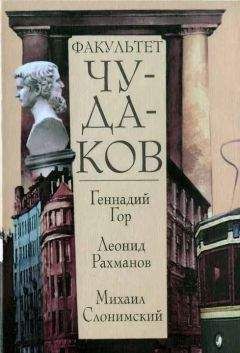Всеволод Иванов - Кремль. У
— К? — сказал я. — На букву «к» много профессий. Клепальщики, каменщики, кружконосы, крючкотворы, а вот «р». Рыбальщики, разведчики, рисовальщики.
Черпанов положил лист в карман и достал наши фуражки.
— Плохо мы знаем рабочий класс, — сказал он удовлетворенно, играя пальцами на фуражке, — я полагал, бить будут.
Из столовой выскочил Некрасов:
— Уходите. А закусить? А деньги? — Он протянул Черпанову сверточек денег.
— Чересчур щепетильный ты, — Черпанов сунул небрежно деньги в карман. — Я и доклада не закончил. Интересно точно знать, почем вы докладчику в час платите. Я не в смысле прилипчивости, а со свойственной мне ориентировочностью, дабы других не обидеть.
— Не за доклад. Подписной лист пустили? Пустили. Мы и помогли, чем могли.
Беседа приближается к смыслу дела
Черпанов достал деньги, пересчитал.
— Шестьдесят рублей. Благодарю. Я верну. Пока!
Но тут вступила жена Некрасова, сердобольная и привлекательная. Боюсь, что она одна из всех присутствующих не поняла происшедшего. Она, заманчиво описывая предстоящий пирог со щукой, выразила крайнее сожаление по поводу нашего ухода. Черпанов объяснился кратко, в походной форме: заседание, съезд, конференция, доклад, ждут. Ко всем этим словам в ней укоренилась известная боязливость. «А кресло?» — воскликнула она. Хозяин засуетился:
— Совершенно верно, ребята, кресло же вам подарено. Я вам сейчас напишу пропуск к дворнику, а то он еще не выпустит.
Он с трудом приволок к выходным дверям громадное зеленое кресло, апатично визжащее, приколол к нему пропуск, и мы, пожав ему руку, поволокли кресло. Он провожал нас по лестнице. В огромные окна приближалась к нам луна. Лестница грохотала, кресло то визжало, то ржало. Соседи высовывали головы. Я безропотно и даже, сознаюсь, трусливо потел. Наконец, мы спустились вниз. Вежливый хозяин крикнул с верхней площадки:
— Благополучно?
Черпанов молчал. Я ответил, что все вполне благополучно. Стукнула дверь. Яблочный цвет луны озарял нас. Дом молчал. Черпанов опустился в кресло, ворча:
— Совсем обынтеллигентились. Этак любой прохвост разовьет перед ними любые идеи, а они будут вежливо улыбаться. Шляпы! Кляксы бюрократические. Морду не могли набить.
— А если они, Леон Ионыч, догадались, что у вас секретные инструкции?
— Ясно. Иначе б непременно побили. — Он вскочил и плюнул в кресло. — Устыжать, посрамлять, уличать — и кого, Черпанова? Человека, который неотвязно понял весь поступательный ход революции. На кой черт мне нужно кресло? Мне надобна рабсила, а не кресло.
— Подарите Степаниде Константиновне.
— Пулю бы я ей подарил, а не кресло. Их, дьявол, переделываешь, заботишься, а они — живи в ванной! Стыд, срам, бесславие!
Мы еле протащили кресло через парадные двери. На ступеньке Черпанов поскользнулся, упал и стукнулся лбом о пол. Вскочив, он отшвырнул кресло, и мы быстро пошли. Но не успели мы выбежать за ворота, как нас догнал с метлой, в фартуке, с бородой, словом — традиционный дворник, окающий и с матерками. Он волок за собой ручную тележку — и в ней дыбилось зеленое кресло!
— Извозчика пошли, что ли, нанимать?
— Извозчика.
— То-то я смотрю: пропуск приклеен. Покараулить, что ли?
— Карауль.
Дворник сел в кресло. Тележка качалась.
Мы огибали сквер. Несколько елок загородили нас от дворника. Черпанов плюхнулся на одну скамейку, перескочил на другую, закурил.
— Вот и дворнику есть сиденье, — сказал он, лежа животом вниз и глядя сквозь елки с чрезмерным вниманием. — Какое отводите, любопытно, место в своих размышлениях вы сегодняшней вечеринке, Егор Егорыч?
— Руководящее, — ответил я.
— Руководящее? — с досадой воскликнул он, перескакивая на соседнюю скамейку. — Почему же это руководящее, простодушный вы человек!
Войдя в скверик, где под вкрадчивым светом фонаря осенняя зелень — в пол-листвы — тщательно старалась казаться молодой и доблестной, я подумал, что сейчас, пожалуй, часа три утра. Впрочем, не все ли равно вам, любимый мой читатель, сколько прошло или сколько есть времени? Закрыто вам или ведомо, что по времяисчислению нашего житьесказанья от начала его прошло, кажется, четыре дня, а в предыдущей главе вы узнали, что делегация вместе с профессором Ч., направившаяся на съезд криминологов в Берлин, уже успела вернуться, уже успели выздороветь ювелиры бр. Юрьевы, и уже сняли М. Н. Синицына.
Знаю, дабы не обижать автора, вы, глядя на сие недоразумение вполглаза, благожелательно решили, что съезд или не состоялся, или продолжался четверть дня, что ювелиры никогда и не были больны, а М. Н. Синицын снят был уже задолго до романа, и только на бумажке об его снятии не хватало подписи известного лица. Сожалея, должен сознаться: съезд тянулся шесть дней, обсуждение снимать или не снимать М. Н. Синицына — пять, выздоровление ювелиров… словом, со дня начала романа прошло три декады. Три декады! Надеюсь, вам понятно теперь мое раздражение против доктора, который в течение трех декад обещал ежедневно выехать — и не выезжал. Отчасти этим раздражением, отчасти и желанием наибольшей связности объясняется то, что в четыре дня я вкатил события трех декад, в чем сейчас и раскаиваюсь глубоко, идя тяжелой бичевой тропой, волоча на лямке «посуду» объяснений — и все-таки оставив читателя вполпитья, не утолив его пытливости. Хотелось мне также не лишить вас дневного освещенья, ибо все события, — если быть откровенным, — в доме № 42 происходили глубокой ночью; необходимо запомнить, что и электричество там горело каким-то особенным, засевающим душевную суматоху, светом. Далее. Мы спали преимущественно днем, — и впредь до конца романа — будем просыпаться никак не ранее 12 часов дня. И напоследок сознаюсь, события последующих глав, то есть второй части нашего житьесказанья, происходят в течение пяти дней, тогда как беспокойство наше о связности настоятельно побуждает нас растянуть их до месяца, то есть проделать как раз обратное тому, что мы натворили в первой части. Дело в том, что событий и приключений — самых удивительных за эти пять дней выросло уйма. Их возможно сделать достоверными только тогда, когда мы расставим их среди длинных промежутков времени — так, примерно, стояли уездные города в царской России, ибо кто бы смог поверить — если б их поставить все рядом, — что может существовать такая чудовищная по неправдоподобию жизнь. Или — пример ближе: мемуары. Представьте, что человек втискивает все происшествия своей автобиографии в один день. Мучайся, хлопочи, бейся — и все-таки читатель вправе сказать: неудачно, беспутно! Вернемся, однако, с полпути к истине, обратно. Подлинно утверждаю я, что все время, хоть я и рискую остаться в душевных потемках, маюсь я жаждой правдоподобия. Всячески стараюсь быть детальнее; с отвращением, временами, принуждаю себя к плоскому и уродливому бытовизму, дабы заставить вас поверить, что все так и происходило, но и сам плохо верю своей удаче. Полезно опять-таки поговорить о времени. Поймите, любимые мои, никак невозможно, — хотя б это и было б наиубедительнейше, — протянуть события пяти дней на год: и героев нет, частью разъехались сами, частью их разъехали, и… забавно и приятно наблюдать, как течет время, грациозно, но и строго смеясь над романистом!., и уже вместо деревянно-колонного № 42 возвышается восьмиэтажная громада с универмагом, прачечной, газоубежищем и прочим; недавно я проходил мимо него — где узнать переулок! — и подумалось мне: а не бросить ли к чертям собачьим весь роман, не ограничиться ли отрывками и не выкроить ли из них какой-нибудь драматургической безделки, но тут же благой мат честолюбия указал мне на участь романиста, — не поиски времени, как утверждает классик и туча его подражателей, — а проецирование теперешнего состояния вашего сознания на прошлое; ведь, по правде сказать, — и мысли у меня тогда были иные, и события совершались по-иному. Извините меня за эту откровенность, но будем искренни: вообще-то смысл человека не вырасти в полного подлеца, а в книге, уверяю вас, это еще труднее, чем в быту, и, если вам не нравится моя манера разговора, то рекомендую захлопнуть книгу, я и то с трудом доволок вас до средины этого благовествования, пора вам прекратить снисходительность, пора найти нечто более казистое, в качестве такового гостинца милостиво разрешите рекомендовать вам моих современников с менее упрямым пером, менее дурно… — э, кому нужны их имена, они и без того у всех на устах!.. — а я поплетусь своей плохой дорогой, считая видной заслугой и то, что вы соизволили допереть до половины, — у меня, собственно, и задача стояла такова, чтоб подсунуть вам треть вместо половины!.. Довольно! Пора вам, читатель, перестать обижаться на сочинителя, пора прекратить милостивые и снисходительные улыбки — приспела пора помогать нам. Извольте-ка вот события последующих двадцати шести глав втиснуть в пять дней — и поверить этому, да втиснуть так, чтобы это не казалось растянутостью. Удивительно, но все мои работы казались редакторам растянутыми. Писал и в десять печатных листов — растянуто, и в четверть листа — растянуто, после всего даже письма мои, правда — ругательные, тоже казались им растянутыми. Однажды, имея привычку для скорейшей ловли мыслей писать без знаков препинания, я ошибкой отправил рукопись в переписку, не просмотрев. Машинистка сама расставила знаки, а так как до сего она работала у В. Б. Шкловского, то рукопись приобрела вид плохо разваренного гороха. И что же? Редактор встретил меня услужливо: «Наконец-то вы прекратили суемудроствовать, перестроились, одолжили, а то, бывало, на фразе застрянешь — и заседание улетит. Не принимаю ваше прошлое за злонамеренность, но доказательство теперешнего моего утверждения: читай хоть одним глазом». Я ответил, что данный случай не более, как заслуга машинистки. «Женитесь на ней, — сказал он, подозрительно ласково, — роль спутницы писателя еще не оценена!» Я ответил ему, что предпочел бы жениться на нем самом, будь бы уверен, что его не снимут хотя бы в течение полугода, то есть пока будет печататься мой нерастянутый роман, и, пожалуй, даже и это не важно, а важна постылая уверенность, что он, редактор, все-таки не будет, — в случае чего, — защищать мой роман. Редактор стянул пояс — и промолчал. Впоследствии я вывел заключение, что и кратко писать вредно, — романа моего он так и не напечатал.