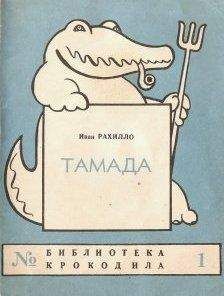Иван Рахилло - Первые грозы
— Никита! — растроганно позвал Митя.
Глаза раскрылись, неожиданно огромные, тёмные, утонувшие под бровями.
— Помираю, брат, — сказал он беззвучным, как дуновение, голосом.
Митя топтался на месте, не зная, что ему предпринять. Холодный пол обжигал пятки. Наполненный нежностью, Митя подошёл к койке и погладил Никиту ладонью по голому потному черепу.
— Не надо умирать...
— Нет, брат, конец... У меня нога горит, достань воды и намочи её. — Тяжёлый вздох поднял его ребра. — Холодно мне...
Митя принес своё одеяло и покрыл Никиту.
— Ты не умрешь, честное слово, не умрешь. Ты чего хочешь, я всё сделаю. Хочешь, я тебе часы подарю?..
— Не надо... — Никита повернулся к стене.
В палату вошёл старичок в белом халате, похожий на парикмахера.
— Ай-яй-яй, как не стыдно бегать босиком! — добродушно, с напускной серьезностью покачал он головой. — На место, на место...
Он вынул из футлярчика хрупкий, как льдинка, термометр и всунул его Мите под руку.
— Держи крепче, а то улетит. Ты и есть Муратов, которого с запиской привезли?
— Я.
— Зачем же ты по полу босиком ходишь?
— А я к Никите подходил — он плачет и говорит, что умирает. Он не умрет, правда? — с надеждой спросил Митя.
— Ну ясно, что за разговоры? Подкормится, а ногу резиновую приделаем.
Доктор обошёл всех больных и вернулся к Мите.
— Ну-ка, давай посмотрим температуру... Так... Немного повышена. Покажи язык!.. Язык в порядке. Живот не болит?.. Обыкновенное переутомление. Через недельку тебя выпишем, гулять пойдешь.
— А к Никите можно будет приходить?
— Даже обязательно...
Митя забрался под одеяло и тихо и радостно рассмеялся.
«То-то будет удивления — на всю улицу. «Слыхали?» — «Что такое?..» — «Как же, Митька домой вернулся. Думали, погиб, а он, пожалуйста, явился налицо!» — «Ну-у? Неужели явился?» — «Представьте себе!»
Глава девятая
Бульвары горели осенней бронзой. По дороге, поднимая розовую пыль и затопляя берега улицы, прибоем катилось стадо блеющих баранов с грузными дрожащими курдюками.
С чувством счастливого опьянения Митя спустился по каменным ступенькам госпиталя и облокотился на перила. После сумеречной палаты город казался сказочным. С неожиданной ясностью он увидел вдруг сущность окружающих предметов, словно родился заново. Его волновали острые ветки акации, выскакивающие из пожелтевших листьев, как выстрелы. Шершавость кирпича доставляла ему невыразимое наслаждение. Он до странности ясно осязал тёплую, глубокую шерсть баранов. У чистильщика сапог необструганный ящик оброс мелкими занозами. Митя разглядывал вещи с восхищением, окаменев на месте, боясь спугнуть это редкое, неуловимое состояние.
Люди гуляли по бульвару в праздничном настроении. Разговаривала гитара. Дорожка бульвара была усеяна растоптанной шелухой рябых семечек.
Тихим шагом, точно налитый до краев, Митя осторожно сошёл на тротуар и пересёк дорогу. Наметённые сугробы листьев трещали под ногами.
На скамейке важничал доброволец из гимназистов с нашитым на рукаве белым черепом. Три барышни щебетали около него наперебой. На сизом, выцветшем картузе добровольца ещё синели скрещённые веточки — след недавно снятого гимназического герба. Барышни умильно заглядывали ему в глаза, а он слушал напряжённо, по-видимому обдумывая что-то очень серьезное: Митя заметил на его лице даже некоторую угнетенность. Замешкавшись, доброволец неловко вынул из кармана грязный носовой платок, судорожно скомканный в кулаке, высморкался и сразу повеселел.
Из маленькой шашлычной вырывались буйные звуки сазандари и тулумбаса. На площади производилось обучение добровольцев. Вытянувшись в шеренгу, они топали на месте, молодецки прихлопывая левой ногой. Командовал ими офицер с белокурой бородкой. Нарядная публика, родственники и знакомые запрудили тротуары, любуясь героями сыновьями. В толпе Митя узнал и Хорькова, от него так несло нафталином, что соседки отодвигались, уступая ему место. Одетый в старомодный костюм, с высоким крахмальным воротничком, стягивающим толстокожую, растресканную шею, он приставал к встречному и поперечному.
— Мой-то, мой, сукин кот, — показывал он коротким пальцем, — выкаблучивает как!.. Весь в отца.
Растроганным жестом Хорьков смахивал радостную слезу.
Седьмым слева, в новых английских обмотках старательно утаптывал землю Сашка, подтянутый до последних пределов.
Офицер лёгкой походкой прошёлся по фронту и скомандовал :
— Рота-а... стой! На пер-второй рассчитайсь!
— Пер-второй, пер-второй...
— Смирна!.. Ряды-ы сдвой... Напра, равнение вдоль дороги, шаго-ом...
Ожидавшие возле орудий музыканты подняли солнечные трубы.
— Арш!
Взрывая вечер, оркестр грянул вздымающий, крылатый марш, офицер, придерживая рукой шашку, пошёл впереди колонны гордо и бесстрастно. Митя вытягивал шею, стараясь увидеть шагающих добровольцев: Сашка притоптывал с выпяченной грудью, неестественно размахивал руками, упершись глазами в крутой затылок впереди идущего, его выутюженная гимнастерка топорщилась из-под пояса, как хвост у воробья.
Завернув с площади, колонна пошла по Почтовой.
Подрумяненная закатом колокольня в изумрудной скуфье встречала колонну праздничным перезвоном колоколов. Сашкин отец поднимался на столбики и истерически выкрикивал:
— Да здрасть добровольческая армия!
— Ура, — нехотя поддержали его со стороны два чьих-то насмешливых голоса.
— Да здрасть единая, неделимая Россия! — не унимался Хорьков.
— Ура, папаша!
— Да здрасть товарищ Деникин!..
В толпе засмеялись. Обескураженный Хорьков слез с возвышения и быстро куда-то исчез.
— Увлекся, — заметил парень в рыжих сапогах, обсыпанных кирпичной пылью, — заместо голландки русскую печь поставил... Тоже нашёл товарища. Чудак!
У витрины бильярдной в небрежной позе курили два офицера в боевых поношенных фуражках. Их лица были обветрены. Черная повязка закрывала глаз горбоносого, второй, небритый, засунув руку за борт шинели, где скромно пришитый рябил лоскутик георгиевской ленточки, иронически оглядывал добровольцев. Проходя, Митя услышал, как горбоносый, сдунув с папиросы пепел, сказал:
— Набрали молокососов и таскают, как на ярмарке.
— Одно слово — золотая рота! — небрежно сплюнул офицер с георгиевской ленточкой.
Оркестр замолчал, слышно было только дружное шарканье подошв о мостовую. Правофланговый, с букетиком цветов на фуражке, завёл песню:
Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хоза-арам!..
Рты распахнулись, и добровольцы отважно подхватили:
Так громче, музыка, играй победу,
Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит,
Так за Деникина, за Русь святую
Мы грянем громкое ура-а!..
— Орлы! — восторженно обронила дама в шуршащем платье.
— Крыльев токо не хватает, — добавил с ухмылкой печник.
Процессия, будорожа музыкой постоялые дворы, прошла по базару.
В жестяной мастерской гремели по оправкам молотки, сам хозяин с бронзовой шеей и расстегнутым воротом, обнажив удивительно белую, постоянно скрытую от солнца грудь, зычно зазывал приезжих станичников:
— А вот ведро — всем ведрам ведро: в воздухе кувыркается, о камень бьётся — и не ломается!
Он подкидывал вверх цибарку, сверкающую оцинкованной чешуей, — цибарка с лязгом и громом стукалась о землю, оставаясь, к удивлению покупателей, целой и непогнутой.
На линейках отдыхали заплесневелые бочонки с чихирём и кисловатым вином. Рядом на мангалах поджаривался шашлык из молодого барашка.
Митя проходил аллеей возов, оглушённый огнями помидоров и толчеёй базара. И вдруг из тысячи людей он сразу узнал знакомый пуховый платок и милую спину матери, покупавшей яблоки. Не подготовленный к такой встрече, он подкрался к ней сзади.
— Мам!
Яблоки испуганно посыпались из мешка, мать обернулась с глазами, наполненными радостным страхом, и тихо, оцепенелым шепотом пролепетала:
— Ми-митя?
С матерью Митя разговаривал только по-взрослому.
— Ну, чего нюни распустила? — сказал он строго, сам еле сдерживаясь от того, чтоб не разреветься. — Купила, что ли, яблоки?..
— Купила, купила, родной...
— Надо их собрать, — по-деловому распорядился он.
Набив мешок скрипящими яблоками, Митя взвалил его на плечи. Казачка, кормившая грудью ребенка в папахе, голосисто крикнула вслед:
— Тетка, возвернись — сдачу забыла!
Разговор шёл о пустяках, мать всё время порывалась спросить о главном, где он пропадал, но Митя сворачивал на яблоки.
— Меркой покупала или на вес?
— Ведром. Ты бы рассказал...
— Почем за ведро? — перебивал он.