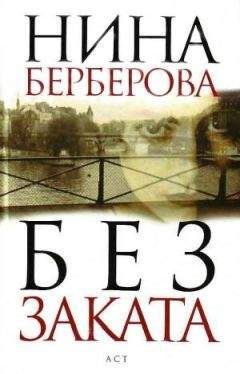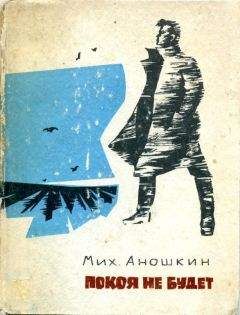Михаил Аношкин - Человек ищет счастья
Славное было время!
Нынче никто никуда не собирался. Владимир приходил поздно и молчал. Молчала и Лида. Валерка спал.
Перед самым отпуском Владимир мимоходом сказал, что собирается ехать на южный берег Крыма.
Лида починяла Валерке штанишки. Подняв глаза, она взглянула на мужа и не видела его. Грустные мысли увели ее куда-то далеко-далеко. Понемногу взгляд ее оживился, дрогнули ресницы, и Лида спросила:
— Ты что-то сказал, Володя?
— Я сказал, что поеду в Крым.
— Ах, в Крым, — произнесла она, словно извиняясь. — Мне показалось, будто ты о чем-то спросил меня.
Она опять склонилась над шитьем. Но вот рука с иголкой замедлила движение, опустилась на колено. Лида проговорила:
— А я тебе охотничий костюм подготовила, сапоги из починки принесла. И ружье твое мастер отремонтировал.
— Но я ж не собираюсь на охоту!
— Нет, ты мне ничего не говорил. А я подумала: тебе лучше ехать на охоту.
— Об этом я сам позабочусь, — недовольно отозвался Владимир и ушел на кухню. Когда вернулся, Лида все так же шила, низко наклонив голову. Владимир посмотрел на жену, на ее печально-сосредоточенное лицо, и нежная жалость шевельнулась у него в груди. Он подумал: «Что, если в самом деле поехать на охоту? Зачем мне этот Крым?»
Лида будто угадала его мысли.
— Тебе, Володя, надо побродить одному, — сказала она. — Я ведь хорошо знаю тебя. Остынешь там, разберешься во всем. Езжай на охоту.
— В Крым поеду, — упрямо твердил он.
— Езжай в Крым. Там хорошо, — вздохнула Лида. — Только тебе не Крым нужен. Ты любишь горы, озера, тайгу. Любишь бродить, коротать ночи у костра. Тебе надо отдохнуть, развеяться, поразмыслить. Помнишь, как тебе это помогло в позапрошлом году? Ты тогда тоже устал, а вернулся с охоты совсем, совсем другим: свежим, бодрым. Я ведь понимаю тебя.
. . . . . . . . . . . . . .
И Владимир уехал на охоту. Лида поцеловала его и заплакала. Успокоившись, она поглядела на него большими, печальными глазами и сказала:
— Я люблю тебя, Володя. Ты это не забудь, когда будешь думать о себе. Плохо будет нам с Валеркой без тебя. Я тебе верю, Володя…
10Городок, куда приехал Владимир, был чудесен. На улицах было много рябины. Она пламенела почти перед каждым домом, придавая тихим улицам особую прелесть. Красные гроздья рябины свешивались к резным наличникам окон, клонились к акации, отражались в голубой дремоте озер. Роняли листья деревья. Отцветали на газонах последние цветы.
Владимир ушел в горы.
Лето увядало спокойно. Пожухла трава. Воздух был чистым и прозрачным. Роща проглядывалась насквозь. Редко и неохотно падали листья — печальна и обидна осенняя немощь.
Иногда попадались красавицы-лиственницы. Высокие недоступные, они любят свет, солнце, свободу. Одиноко или группами высятся они на взгорьях, пожелтели, выделились на фоне темной зелени сосен, грустят о вчерашнем и мечтают о голубых ветрах весны.
В горах Владимир бродил целую неделю. Пил студеную родниковую воду, варил свежую картошку и то, что удавалось промыслить. Зябкие ночи проводил в зародах (делают внизу такие ниши, в которых тепло и сухо). Ходил до изнеможения, а потом разводил костер и писал стихи. Он старался не думать о том, от чего убежал. Хотел, чтобы все устоялось, улеглось, тогда легче будет решить.
Больше всего скучал по Валерке. Попадалась красивая еловая шишка — совал в карман: для Валерки! Поднимал со дна прозрачного родника зеленый, как малахит, камешек — прятал его в рюкзак: для Валерки! Поймал однажды ежа и пожалел, что нельзя его увезти Валерке. Убил глухаря, сделал чучело и с волнением подумал, как обрадуется Валерка!
В конце недели забрел Владимир на гору, которая называлась Осиновой. Собственно, ее с большим основанием можно было назвать березовой или лиственничной, потому что осины здесь было немного — она жидкой рощицей жалась у подножия.
Раньше в этих местах Владимир бывал часто. Последний раз приходил сюда два года назад. Нравился ему здесь один уголок. Еще в юности забрел сюда с ружьем, притомился, поднимаясь на гору Осиновую, и опустился на ствол упавшей когда-то сосны, огляделся. Уголок, словно в награду за усталость, оказался очень красивым: щетинистые гористые дали, внизу лес и лес, а вдали увалы тянутся за увалами, уходят за горизонт.
Сам уголок оказался небольшой поляной с высокой, густой травой. Сосновый лес обступал ее со всех сторон. Самой примечательной была лиственница, высокая, мачтовая. До половины ствол ее без ветвей, а выше бархатная шапка хвои. В то время лиственница уже начинала желтеть. Внизу бойко зеленела молодая поросль.
Всякий раз, когда потом приходилось Владимиру бывать в этих дремучих краях, он обязательно навещал эту поляну, отдыхал здесь, выкуривал одну-две папиросы и отправлялся дальше.
На этот раз он снова заглянул в облюбованный уголок. Хотелось по привычке покурить, помечтать, полюбоваться горными далями. Но он не узнал знакомого места. Поляна была та же, все так же глухо обступал ее сосновый лес, все так же буйно росла трава, но не было главного — гордой лиственницы. Над землей возвышался остаток ствола, черным острым изломом целясь в небо. Владимир подошел ближе и понял: лиственницу свалило молнией. Вершина валялась тут же, из травы торчали голые сучки, а над ними кружились стрекозы. Дикий татарник мощно разросся, привлекая синими и малиновыми махровыми цветами.
А лиственницы не было. Остался один обгорелый пенек. Первозданная прелесть ее в прошлом, во вчерашнем, в памяти…
Огорченный Владимир решил поскорее уйти отсюда. Грустно пощипывало сердце. И все-таки поляна с гордой красавицей-лиственницей останется в памяти, останется такой, какой она поразила его в юности.
Уходя, он еще раз оглянулся, прощаясь. И неожиданно заметил то, чего не заметил сразу, хотя и было в этом пропущенном главное, без чего немыслимо понять красоту жизни. Он увидел, что рядом с обгорелым пнем с завидной уверенностью подросли молодые лиственницы. Они тянулись к солнцу, к свету, они росли словно наперегонки.
И это новое, что вдруг открылось ему на поляне, обрадовало его, Владимир почувствовал, что находится у истоков того, что поставит в его жизни все на свои места, что освободит, наконец, его от тяжелого бремени. Он почувствовал, что в его душе происходит какой-то поворот.
И шагал напролом сквозь чаши и болота, пробирался сквозь кустарники, карабкался на шиханы, охваченный новыми мыслями, новым радостным чувством.
Да! То было в прошлом. А ведь прошлое всегда волнует, бередит сердце, отзывается грустью. Сила прошлого тем беспощаднее, чем больше самого себя осталось в нем. А овручские встречи разве не прошлое? Разве не было грозы, после которой не должно быть возврата к старому? Во время этой грозы сгорело то, что связывало его с Галей, сгорело до пепла. Но разве на старом пепелище может возникнуть снова пламя?
И эти новые мысли погнали Владимира из леса к Лиде, к Валерке. Он больше не мог переносить одиночества, оно тяготило.
Скорее в город! Скорее домой! Скорее окунуться в кипение жизни, в бурный водоворот всех событий, — нет без этого настоящей радости, нет настоящего счастья!
УЧИТЕЛЬ
Кажется, эта заводская профсоюзная конференция была для Андриана Ивановича последней — больше, наверно, не изберут: скоро он уйдет на пенсию. Многие сверстники уже на отдыхе. Но Андриан Иванович пока не спешил, словно бы надеясь на какое-то чудо, которое избавит его от необходимости навсегда покинуть завод.
Много лет назад, когда Андриан Веретенников появился в Челябинске, завода не было и в помине. На окраине простирался унылый пустырь. Строительство завода только начиналось, не хватало людей. Андриан Веретенников стал простым землекопом, хотя имел ходовую рабочую специальность — был слесарем. Нынче пустырь оделся в асфальт и камень, шумят листвой парки и скверы социалистического городка, заводскую территорию не обойдешь и за неделю. И каждый кирпич, уложенный в здание, каждое деревцо, поднявшееся перед окнами дома, — частичка самого Андриана Ивановича. Сломай ненароком веточку, и это болью отдастся в чутком сердце старого мастера.
А люди? Он с одними состарился в повседневных делах и заботах, а те, что помоложе и совсем молодые, выросли на глазах, возмужали, прочно определились в жизни. И вот попробуй все это оторвать от сердца, выключить себя из упругого привычного ритма, отстраниться от того, что было смыслом всей жизни.
Но старость не желает считаться с этими привычками и привязанностями. Ей до них нет дела.
Андриан Иванович, заложив руки за спину, высокий, немного сутуловатый, прохаживался по фойе заводского театра, прислушивался к нестройному гулу голосов, кивал головой знакомым. Их было много, знакомых, — даже голова заболела от кивков, шея устала. Кое-кто порывался подойти к Веретенникову, но не решался. Сердит, недоволен чем-то старик — брови нахмурил, глаза из-под них смотрят сурово, прокалывают насквозь, будто иголки, щеточка усов топорщится, как у ежа колючки…