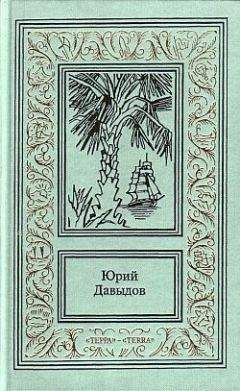Григорий Кобяков - Кони пьют из Керулена
А вот широкая дорога в столовую. Она до сих пор не заросла травой. Вышел на нее и невольно шаг сделался упругим, словно оказался в строю. Закрываю глаза, и чудится голос старшины Гончаренко: «Может, споем, хлопцы?»
Однажды охрипший от простуды Ласточкин не смог запеть. Ради шутки запел заряжающий Драницын, парень грубоватый и насмешливый.
Пусть он землю бережет родную,
А… сосед Катюшу сбережет!.
— Отставить песню! — последовала команда.
Молча дошагали до землянки. Старшина остановил батарею.
— Красноармеец Драницын, выйти из строя.
Тот сделал три шага вперед, повернулся к батарее.
— За оскорбление песни объявляю один наряд вне очереди. Ясно?
— Так я же не песню оскорбил, я Валову хотел напомнить…
— За оскорбление бойца Валова объявляю еще один наряд вне очереди.
Паша Валов… Служба у него шла легко и весело. Мы часто замечали, как наш командир батареи, человек строгий, требовательный и неулыбчивый, останавливал свой пристальный взгляд на Паше и нередко улыбался. А как-то на занятиях по огневой подготовке сказал:
— Хороший пушкарь из тебя выйдет, Валов!
От этой похвалы Валов засиял весенним солнышком. Ходил — грудь колесом. Приказы стал исполнять еще с большим рвением и старательностью.
И вдруг что-то случилось с Пашей. Закручинился.
Помрачнел. Осунулся. Ходил, как в воду опущенный. Командир отдает ему приказ, а он: «А? Что? Как?»
— Что с тобой, Паша? Уж не заболел ли?
Махнет безучастно рукой и взглядом, полным тоски и отчаяния, упрется куда-то в землю.
Долго так продолжалось. Совсем извелся парень. Однажды после вечерней поверки (не в первый раз уже) мы подсели к нему и ну тормошить:
— Да что же с тобой, друг ты наш дорогой?
Достал Паша из кармана листок бумаги и подал нам. Из дому писали, что его невеста изменила солдату. Нашла другого.
Всей батареей мы написали тогда ей злое письмо.
А Пашу пытались утешить, как могли.
Говорили:
— Не сберегла любовь? А была ли она? Берегут ведь то, что есть и что стоит беречь,
— Любовь была…
Говорили:
— Несерьезная у тебя, видать, невеста была. Ветер…
И зачем о ней жалеть?
— Нет, она очень серьезная…
— Тогда почему она так поступила?
— Не знаю…
Ослепленный любовью, Паша Валов не хотел видеть никаких недостатков в своей невесте. И умная она, и серьезная. К тому же красивая: глаза жгучие с прищуром, брови вразлет, улыбка — с хитрецой. (Фотографию Паша всегда носил при себе.) Долго страдал парень, но в конце концов взял себя в руки.
Она вышла замуж. Прожила недолго и разошлась. И снова хотела вернуться к Паше. Только солдат, переболевший, перемучившийся, нашел в себе силы и мужество на ее покаянное и слезливое письмо ответить решительно: нет!
…Правильно сделал старшина, что вынес два внеочередных наряда заряжающему Драницыну.
Я еще долго брожу по своему городку. Вспоминаю. Даже на самый увал забрел, где стояла банька. Скупой старшина воду выдавал тазиком: тазик — на стирку белья, тазик — на купание. Упаси боже, если лишний тазик израсходуешь…
Возвращаясь к заждавшемуся шоферу, смотрю на зеленую степь, на сопку Бат-Ула, плавающую в синем мареве.
Да, тут мы жили, тут несли свою солдатскую службу. А совсем рядом, в городке за Керуленом, — он отсюда как на ладони виден — текла совсем иная жизнь, жизнь Катюши, но о ней после отъезда Максима мы ничего не знали.
Глава восьмая
Наверно, правильно говорят, что если ты хочешь узнать историю страны и понять душу народа, если тебя интересуют обычаи и нравы людей — поработай в музее. В Баин-Тумэни прекрасный музей, и я долгие часы проводил в нем. А вечерами мы беседовали с Лодоем — отцом Алтан-Цэцэг.
Лодой — профессиональный партийный работник. Свою нелегкую ношу он нес до тех пор, пока позволяло ему здоровье.
Беседы наши затягивались порой допоздна. Лодою, участнику народной революций, строителю новой жизни, находившемуся всегда на ее быстрине, нравилось рассказывать об отшумевшем времени и о судьбах людских.
От Лодоя я услышал печальную повесть о честном, сильном и гордом батраке по имени Эрдэнэ, о том, как батрак этот — отец Лодоя — вступил в смертельную борьбу с ненавистными богачами, как сам Лодой искал и нашел дорогу в Революцию и как она, Революция, повела его потом к свету, к знаниям, к новой жизни.
Мне подумалось: если я умолчу о жизни Лодоя и его отца, о жизни старшего поколения, то рассказ об Алтан-Цэцэг будет далеко не полным и не во всём понятным. Ведь в судьбах детей всегда есть продолжение судеб отцов и дедов.
В середине зимы над степью пронеслась пурга и обрушились снегопады. Потом нагрянула резкая оттепель и дождь. И следом — лютые морозы. Вся земля покрылась скользким, гулким и жестким ледяным панцирем. Ударит конь копытом — земля гудит, как железная. Не то, чтобы корм добывать — ходить не могли но скользкой ледяной корке ни овцы, ни коровы, ни даже лошади с их крепкими копытами.
По степи покатилось страшное слово: дзут! Бескормица. Мор скота. И случилось это в первых числах Белого месяца — в феврале.
Тайджа из хошуна Сан-Бейсе Цамба приказал своим батракам перегонять отары овец на восток — в долину реки Халхин-Гола.
Там, как стало известно Дамбе, дождей совсем не было, а снежные заносы небольшие.
Ранним морозным утром, собрав свой скарб, батраки начали далекое и трудное кочевье. Среди батраков были тринадцатилетний Лодой и его отец Эрдэнэ.
К концу месяца кочевники вышли к Халхин-Голу. Старые и опытные скотоводы, они сумели сохранить основную массу овец. Здесь, на Халхин-Голе, снег действительно был небольшой, пастбища не выбиты, а погода стояла сухая и теплая.
Недели через три, во второй половине марта, Эрдэнэ поехал на Керулен навестить жену с ребенком и, может быть, забрать их с собой. Сына Лодоя Эрдэнэ оставил у своего друга Жамбала.
Подъезжая к Керулену, еще с дальних увалов, Эрдэнэ увидел свой айл и почувствовал, что в айле неладно: над юртами не кудрявился живой дымок, хотя дул злой сиверко, ни вблизи, ни вдалеке не было видно овец. Кружилось воронье.
Эрдэнэ не помнил, как доскакал до своей юрты, как ворвался в нее. Первое, что увидел — снег на очаге. Рядом с очагом — большой бычий пузырь, похожий на шар, — игрушка сына. Внутри сразу все похолодело, словно сунули его в ледяную воду. После яркого света в полумраке юрты Эрдэнэ ничего не видел. Спросил:
— Да есть ли здесь кто живой?
Справа от очага что-то зашевелилось. Эрдэнэ услышал стон.
Дулма!
Дулма, высохшая вся, почерневшая, лежала с закрытыми глазами. Тело ее пылало жаром.
— Дулма! Дулма! — тряс за плечи жену Эрдэнэ и кричал: — Ребенок наш где?
Дулма не отвечала. Из ее открытого черного рта рвался горячий храп и на губах пузырилась белая пена.
Безумными глазами Эрдэнэ обшаривал юрту. У изголовья Дулмы увидел сложенное тряпье. Рванул его и застыл в ужасе: из тряпья выпал и глухо стукнулся о мерзлый земляной пол маленький Бато. На черных губах трупика застыла белая пена.
— О, небо!
Эрдэнэ упал на колени!
Долго или недолго пробыл Эрдэнэ в юрте, только вышел оттуда старым сгорбленным человеком, не знающим, куда надо ехать, что надо делать. Солнце скатывалось за Керулен, за дальние холмы и где-то там укладывалось спать. Земля и небо затягивались фиолетовыми сумерками. Эрдэнэ тупо глядел на закатное солнце, на дальние холмы, на мертвые юрты айла. Ветер стучал и скрипел дверьми двух соседних юрт, из которых тоже ушла жизнь. Злились и рвали друг у друга человечьи кости одичалые псы. Айл умер. Умер от голода и холода.
— Как же вы, люди, допустили такое?
В мозгу шевельнулась и болью отдалась мысль: «Тайджа уморил. Тайджа — собака, хуже собаки». Собрав остатки сил, Эрдэнэ взобрался в седло и поехал к городу, в айл тайджи.
Было еще не поздно, когда Эрдэнэ приехал к тайдже. Его встретил ленивый лай откормленных псов. Среди десятка юрт Эрдэнэ быстро отыскал самую большую юрту — юрту тайджи, у которой стоял служка. Служка шмыгнул в дверь. Эрдэнэ постоял — может, выйдет кто встретить. Но из юрты никто не выходил. Такого гостя здесь не ждали. Эрдэнэ переступил порог и сразу опустился на пол — не держали ноги.
Тайджа Цамба ужинал. С маленького статика он брал жирные куски баранины и, ловко орудуя острым с серебряной отделкой ножом, отправлял их в рот, запивая кумысом. Руки и лицо тайджи лоснились от бараньего жира.
Эрдэнэ подали пиалу с кумысом. Он принял ее дрожащими руками.
— Какие вести привез, пастух?
— Худые, хозяин. Сын умер, жена умирает.
— Но я им белой травы отправлял. Чего же они не лечились?
— Не травы нм надо было, а мяса и хлеба… Весь айл умер.
— Нынче у всех беда, — вздохнул Цамба.