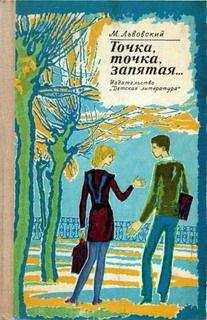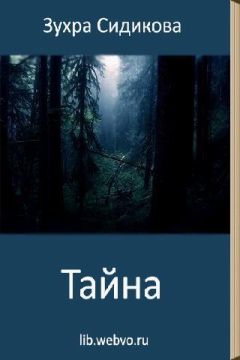Александр Филиппов - Когда сверкает молния
— Хорошо, я разберусь, — еще раз сказал он и вышел из зала красного уголка.
Вслед за ним вышел и Николай. Он опять остановился у двери со стеклянной табличкой «Партком». Молоденькая секретарша объяснила Николаю, что Зарипова нет на месте, он с утра в горкоме партии на экстренном совещании.
— А как же партком? Сегодня же заседание парткома?
На его недоуменный вопрос секретарша ответила, что звонил Нургали Гаязович, просил извинения.
— Заседание партийного комитета, — объясняла она, — в горкоме решили отложить до возвращения из Москвы генерального директора и главного инженера.
ГЛАВА ПЯТАЯ
В горкоме партии московская комиссия подводила итоги вчерашнего пуска установки. Вся работа по всем параметрам прошла хорошо. Особых замечаний не было. Присутствующие, анализируя ход пуска, постоянно упоминали Виктора Ивановича Рабзина, приписывая ему не только всю тяжесть исполнения работ, но и саму идею.
Начальник цеха Ясман, с иконным спокойствием в усталых глазах, с лицом в глубоких морщинах, сидел рядом с секретарем парткома Зариповым, молчал. Пожалуй, он один из всех присутствующих хорошо сознавал несправедливость завышенных похвал технолога. Израель Львович внимательно вслушивался в слова выступающих, недоуменно раздумывал над тем, почему все они замалчивают о его заслугах как начальника цеха, как одного из соавторов реконструкции. Но и это еще полбеды! Более всего возмущало странное замалчивание заслуг оператора Николая Локтева. До сих пор ему казалось, что на комбинате все заинтересованные лица отлично знают меру участия в колоссальной работе оператора цеха. «Высказаться или промолчать? — раздумывал он. — Не покажется ли членам комиссии и работникам горкома партии принижение роли Рабзина умышленным?» А если бы довелось выступать, то он выступил бы непременно по этому поводу. Израель Львович не был посвящен во все детали участия Локтева в создании проекта всей реконструкции, но точно знал, что заглавной фигурой был именно он. Без малого три года назад этот рабочий, какой-то робкий и застенчивый, постоянно обивал пороги кабинета начальника цеха, не давал прохода со своей идеей. Как-то, устав от бессмысленных отговорок, он пригласил Локтева к себе домой, пригласил не по производственной необходимости, так как цех планы свои перевыполнял, был на хорошем счету, а по соображениям чисто человеческим. Тем вечером Локтев пришел к нему не один, с прорабом Павлом Петровичем, с которым Ясман был в добрых приятельских отношениях еще с первых дней строительства комбината. «Ты уж, Львович, не обижай парня, — сказал тогда прораб. — С этой затеей давно он носится, все прошибить чьи-то лбы не может. Теперь вот и меня, старика, растормошил, вовлек... Ты присмотрись, Львович, думаю — толк будет...»
Еще тогда, детально разобравшись во всем, Израель Львович сообразил, какую экономическую выгоду принесет цеху и всему комбинату эта реконструкция карбамидной установки. Все расчеты он взялся проверить сам, грамотно оформить предварительные чертежи попросил начальника бюро Давыдовича в порядке дружеской помощи.
Так что Рабзин подключился позднее, когда потребовалась конкретная детализация и чертежей, и расчетов.
Сидя здесь на совещании, он осознавал какую-то несправедливость по отношению к оператору. В то же время видел, что все точки над «и» расставлены, каждому воздано по заслугам, за исключением Николая Локтева. «Бог его знает, — неопределенно думал он. — Может, так оно и должно быть. Если по справедливости взвесить, то Виктор Иванович тянул поклажу не из легких. Коль выскажу свое сомнение, не будет ли это выглядеть попыткой возвеличить свою роль над ролью главного технолога? Легче промолчать, — усомнился он. — А по поводу Локтева лучше разобраться у себя в цехе, зачем сор из избы выносить?»
Однако все эти хладнокровные рассуждения не убедили его, а, наоборот, привели в полное замешательство. Почему же, в конце концов, Локтева игнорируют вообще? Кто бы и чего бы ни говорил, каждый стремился упомянуть Рабзина, воздать должное ему, начальнику цеха, или в крайнем случае главному инженеру комбината за столь важную, общегосударственного значения работу. Одного Локтева не вспоминали совсем.
Израель Львович не выдержал, попросил слова.
— У меня, товарищи, всего один вопрос, почти не касающийся производства, вопрос элементарной этики.
Все настороженно притихли. Здесь шел такой оживленный разговор с анализом, похвалами, замечаниями и вдруг — вопрос этики. Логично ли?
— Пожалуйста, продолжайте, — заметив некоторое замешательство, поддержал Ясмана секретарь горкома.
— Я, собственно говоря, вот о чем... Какая-то, по-видимому, вкралась ошибка во все происходящее. Не хочу принижать роли главного технолога товарища Рабзина, и все-таки должен часть высоких похвал в его адрес переложить на другую чашу весов.
Некоторые из присутствующих оживленно зашептались между собой. Секретарь горкома кончиком карандаша постучал о стол.
— Тише, товарищи, а вы продолжайте, Израель Львович.
— Дело в том, — решительно заключил Ясман, — что не известно по чьей вине, а может быть, и без злого умысла мы забыли совершенно одного работника нашего цеха — оператора Николая Ивановича Локтева. Я полностью уверен и думаю, что одним из главных зачинателей всей реконструкции был он.
— Не уверен — не обгоняй, — пошутил секретарь горкома. — А коль вы, Израель Львович, уверены, то идите на обгон смелее... Почему тогда, я вас спрашиваю, не приглашены сюда ни тот, ни другой? Я ли должен решать такие элементарные вопросы — кого приглашать, кого — нет?
— Разрешите ответить мне! — поднялся со стула Нургали Гаязович. Широкоплечий, высокий, с прищуром узких глаз, он обратился к секретарю горкома: — Это лично моя вина, грешен. Я, Сергей Семенович, заподозрил неладное и решил ни Локтева, ни Рабзина не вызывать на сегодняшнее совещание. Мы разберемся в рабочем порядке, так сказать, у себя дома... Если что, примем соответствующие меры.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Утром был опять неизменный байховый чай. Как всегда, проводить до порога встала Света в своем ситцевом халатике поверх худеньких плеч.
Он появился в цехе не тем прежним, тихим, тревожно озабоченным, с постоянной грустинкой в темно-серых глазах. Он был другим.
Дождавшись Ясмана прямо в его же кабинете, Николай встретил начальника цеха непривычной улыбкой в уголках губ.
— Ну как? — вместо приветствия спросил Ясман.
— Что — как? — продолжая улыбаться, на вопрос вопросом ответил Николай.
— Жизнь как, спрашиваю? — протянул ладонь Израель Львович.
— Нормально... Только вот из-за нашей карбамидной установочки два года отдыхать не пришлось. Плюнуть надо на все и куда-нибудь подальше в лес махнуть.
— В отпуск, что ли, захотел? — удивился Ясман. — А как же не разобравшись?..
Николай понял его с полуслова.
— Приеду из отпуска, разберусь сам.
— А прием в партию? — заинтересованно спросил начальник цеха.
— Сказали, что партком откладывается на неопределенное время... Так что одну б хотя недельку отдохнуть треба, Израель Львович. Устал, прямо скажем...
— Что ж, отдыхай, ты заслужил, дружище!
Николай познакомился со Светой давно, еще в училище. И поженились давно, уже две дочки — березоньки светлые — подрастают. Жена — тихая, застенчивая, никогда-то слова лишнего не обронит. Утром бежит, торопясь на работу, вечером — домой. Вся жизнь у нее — это дом, семья, работа...
Он хорошо помнит и то, как впервые поцеловал Свету и как они, несуразно договорившись о женитьбе, собрали в общежитии небольшой шалманчик по поводу свадьбы, так как свадьбы в настоящем ее виде — с такси в разноцветных ленточках, с букетами цветов, с шампанским в доме бракосочетания, с традиционным фотографированием у памятника Ленину — ничего этого у них не было.
Тихая в своей нежной радости жизнь началась у Николая после женитьбы. Он и сам не ожидал такого счастья. Эту маленькую женщину с большими кукольными глазами, с маковыми лепестками губ, с тяжелой медного цвета косой он молчаливо любил и нежил. Ему доставляли, бывало, теплую радость слова прораба Павла Петровича: «Жена у тебя, Николай, — чудо! Девочка с косичками, ни дать — ни взять. Жалей ее, люби! Повезло тебе, однако, с женой: и видом взяла, и домовитостью своей. Главное, береги, Коля, любовь, до конца дней береги... Состаришься прежде времени без любви-то...»
И Света любила его. В ФЗО из всех неугомонных и хулиганистых мальчишек Николай выделялся своей взрослой серьезностью, редко вспыхивал смешливый огонек в его холодных глазах под ржаными колосьями белесых бровей.
В тесной кухоньке Николай перочинным ножом осторожно счищал с молодых картофелин неокрепшую розовую пленочку. Потихоньку, чтоб не слышал никто, напевал:
...ФЗО ты, ФЗО ты,
До чего ты довела —
Из портянки сумку сшила,
По порядку повела...
Света давно уговаривала мужа съездить к нему в деревню. Каждый раз перед отпуском настырно твердила: «Поедем к тебе на родину, хочу знать те тропинки-дороженьки, где ты босиком бегал, колхозных свиней пас. Ты бы земляков постеснялся, на могилку матери не можешь сходить. Сколько живу с тобой, ни разочка не побывали там...»