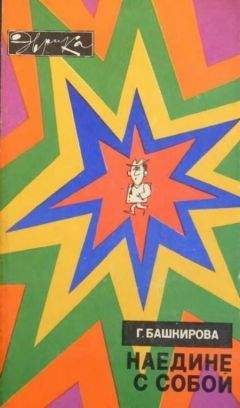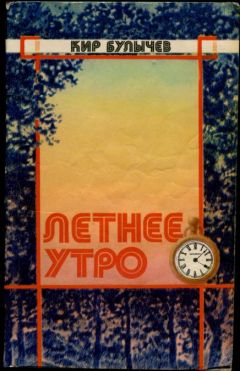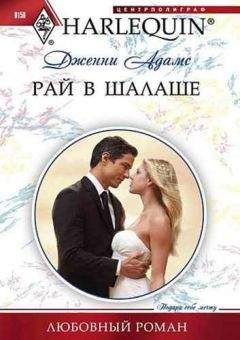Галина Башкирова - Рай в шалаше
Если применить Костину гипотезу (с Таниными уточнениями) к человеческой жизни, получалась грустная картина, подумала Таня. Пригласить кого-то на свою каравеллу или быть приглашенной — это легко, это просто. Трудно отчислять — вот в чем фокус, трудно освободиться даже от тех, кого не любишь, а может быть, особенно от тех, кого не любишь, перед ними всегда чувствуешь себя виноватым, хотя, казалось бы, в чем? «Я ухожу от тебя навсегда» — нет, это невозможно понять с полуслова.
...А Костя в той комнате все говорил, и его не прерывали, Наталья нетерпеливым голосом отвечала на телефонные звонки: «Звоните позже, совещание». Это Цветков умел делать блестяще — задеть, заворожить, отыскать в душе что-то такое, что и Наталью пронимало. Сейчас он толковал об иллюзиях, их прихотливости, власти их над человеческой душой...
— Все иллюзия, на самом деле течет вода. Каравелла стоит на месте, а навстречу ей движется река времени. Кстати говоря, точка зрения, близкая астроному Козыреву, полагающему, что время обладает деформирующей силой. В идее каравеллизма, рано или поздно одолевающей каждого человека, заключен тяжелый порок — каравелла набирает свой экипаж, забывая, что при этом сама становится управляема. Иными словами, когда человек заселяет свой внутренний мир другими людьми, он их как будто бы порабощает. В конечном итоге это они его порабощают.
...Да, в том-то и дело, подумалось Тане, попробуй скажи своему рабу — «ты свободен, я освобождаю тебя навсегда», так сразу не скажешь: он, бедняга, не готов к свободе. Рабство — страшный вид тирании, невидимый, неприметный, мало описанный в литературе, разве что у древних римлян что-то промелькнуло. Вкрадчивость рабьей власти над душой господина, кто хоть раз в жизни не испытал ее вкус и сладость? И все исподтишка, все мягкой лапкой. И ты уже невольник, ты, казалось бы, хозяин ситуации, сам же этого своего раба или рабыню приручивший, уже не можешь без него обойтись, ты повязан. Он или она исполняют твои желания и капризы. Ты чувствовал, когда выбирал, что тебе этот подойдет. И тебе подходит... И начинается бытовое, мелкое, вязкое: «Где чистая рубашка? Где носки? Почему не отнесла костюм в чистку? Закажи билеты на поезд! Нет, сама сходи в школу. Навести мою маму! Сведи сестру к врачу!» Какой ты после этих просьб господин, капитан, хозяин? Ты раб! Конечно, ты многое мог бы взять на себя, и тогда ты внутренне независим — «ты хороший, она плохая!» — но тебе лень быть хорошим, и потому ты вынужден расплачиваться за пустяк, мелочь — за устроенность своей жизни. И чем шире ты своими правами пользуешься, чем больше не щадишь ту или того, кто служит тебе покорно и безотказно, тем большую власть над тобой обретает твоя жертва. Смешно, но чем больше ты отсутствуешь душой в собственном доме, тем больше дому этому она принадлежит. Пусть не навсегда, пусть до поры до времени, пока это, то есть общая жизнь, длится, но это так... Ты начинаешь своей жертвы бояться, то есть обманывать и скрывать подлинные свои чувства, ты стараешься ее не обидеть: а вдруг она взбунтуется, ведь случались у рабов бунты? Она взбунтуется, ей-то, жертве, хорошо и весело станет! А тебе каково? Кто поднесет рубашку? Кто займется детьми? Мир рухнет! В этом мире все так переплелось, что вырваться почти невозможно. И какое при этом имеет значение, что экипаж твой порядочно тебе поднадоел... Да, тут Костя прав.
...Но Таня снова отвлеклась. О чем они там зашумели? Она услышала голос Виктора:
— Ты имеешь в виду бытийственное слияние с их внутренней сущностью?
И сразу все его осадили, почти хором.
— Не перебивайте, пожалуйста, Виктор Степанович, — недовольно сказал Коровушкин.
— Привычки у тебя, Витенька! — это Фалалеева.
— Да ну, ребята, мура все это! — По Костиному тону Таня поняла, что разговор ему прискучил. Но не так-то просто разговор этот теперь оборвать. Таня взглянула на часы, до конца работы сорок минут, нет, Костю уже не отпустят.
5Костя — магический человек, магия жеста, слова, голоса. Странно, внешне ни одной яркой краски — водянистые глаза, бесцветные волосы, желтоватое, нездоровое лицо мало спящего человека... И все, что на нем, тоже болотно-неопределенное, серое, зеленое, рябь мелких клеток. Внешне — ничего примечательного... Но едва он начинал говорить, словно ветер приносил вместе с его словами свет неведомой жизни, которая, оказывается, возможна рядом с нами, хотя и заключена в непритязательную, не вызывающую особого уважения оболочку... Цветков казался бы некрасивым, даже безобразным, если бы не эта всякий раз заново поражающая магия, от него исходившая. Может быть, он сознательно вырабатывал ее в себе? Как актера на сцене подсвечивают разноцветными прожекторами, так он сам себя научился подсвечивать изнутри. Обычно Таня быстро попадала под обаяние его разговора, словно он брал ее за руку, как берут в детстве, и она послушно шла вослед, и он открывал дверцу в стене, и за ней все иное — вначале хаос красок, стихов, цитат, воспоминаний, и сопротивляться всему этому напору бесполезно, она уже сломлена, уже не в силах возражать; там, за этой дверцей, — иной воздух, иная высота, знакомые слова и имена соединены по-иному, и ей не разорвать эту круговерть, нет сил крикнуть: «а я думаю иначе»; не успевая думать, Таня успевала только подчиниться ходу его ассоциаций, где к концу путешествия все сходилось, где каждый звук был не случаен и каждый мазок лишь оттенял общую, на глазах рождавшуюся картину...
Тане нередко приходило в голову, что Цветков прежде всего и больше всего актер — актер редкого таланта; наверное, это был его главный дар, невостребованный, томившийся в неволе тех законов научной корректности, которых Костя вынужден был придерживаться, и все-таки побуждавший своего владельца время от времени хватать зрителей за руки и открывать перед ними двери в свой личный театр. Если бы зрителем Кости была одна только Таня! Тогда это еще можно было бы как-то объяснить. Но вот Цветков на минутку заглянул в «Ботсад» и не удержался, устроил спектакль, тончайший, рассчитанный на всех, не всякому актеру удастся такое — увлечь сразу Виктора, Ираиду, Наталью и Коровушкина, а Костя это сделал играючи. Но это была сложная игра, и, может быть, лишь Таня догадывалась, что в каждом его слове был свой бессознательный расчет — он всех задел, всем польстил, всех заставил задуматься. В Косте от природы был заложен тончайший резонатор. Как в корпусе скрипки Страдивари, звук, резонируя в нем, приобретал благородство. И благородство это, изливаясь на слушателей, льстило их самолюбию. Но в той сложной игре был свой секрет — актеры повторяют роли, написанные для них драматургом, Костя, сам себе драматург, в совершенстве владел тайной кассового успеха. Он тонко чувствовал, где этот самый успех искать: на той грани, где науки уже нет или, лучше сказать, еще нет, но есть насущная в ней потребность, в новом шаге, новом направлении, в тех едва различимых непротоптанных тропинках, которые когда-нибудь превратятся в бетонированные шоссе, и по ним будут привычно катить свои рассуждения их далекие потомки-коллеги.
Да! В Косте жил и этот дар, мощно подкреплявший его актерский талант: ему дано было слышать время, век, конец века, когда так ощутимо стало всеобщее разочарование в успехах точных наук, в последние сорок лет не принесших ничего сколько-нибудь фундаментально нового, когда сама наука утомилась от собственной раздробленности, разобщенности накопленного общего знания. Даже у них, в гуманитарном институте, не очень-то знаешь и вникаешь в то, чем заняты коллеги в соседней лаборатории.
Наука, как черная дыра, подумала внезапно Таня, как звезда с очень большой массой, проваливается в себя под силой собственной тяжести — ей уже не справиться с собой, она отчуждается от себя, превращаясь в индустрию. Ей трагически не хватает философского осмысления, синтеза или, возможно, чего-то более простого? Допустим, права на интересную гипотезу, на шаг вперед, сделанный без оглядки на существующие законы. Легкости — вот чего ей не хватает, права оторваться и воспарить над горами залежавшихся фактов не с тем даже, чтобы этими фактами пренебречь или присмотреться с высоты, как их заново перетряхнуть... а просто... права воспарить и помечтать о небудничном. Все так мелко, скрупулезно и буднично в этой самой науке — графики, цифры, частицы... расщепили, разрезали, поковыряли гены, покалечили живую материю, доказали, убедили... А дальше? А зачем? А для чего?
...У Кости была не смелость, нет, смелостью это его свойство Таня бы не назвала, — способность устроить праздник, пир, пиршество духа, внешне оставаясь на почве науки, на самом же деле пренебрегая ее законами. Но всякий раз любой свой спектакль он оформлял тем не менее как научное откровение. Таковы правила игры, иначе нельзя, ибо кто же он, как не человек науки? Он человек науки, но он грациозный человек, думала Таня, слушая голос Цветкова, и тут-то, должно быть, заключалось несовпадение, несовместимость, как теперь говорят...