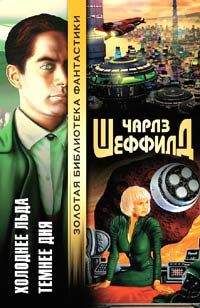Галина Щербакова - Реалисты и жлобы
Мать Татьяны ухватилась за Николая Зинченко мертво. Он приехал тогда к ним уже из области, в синем костюме, белой рубашке и галстуке в вишневую полоску. Машину черного цвета с шофером оставил посреди улицы.
– Ну, как Ленинград? – спросил Николай Татьяну. – Промерзла?
Она, и правда, промерзла. Все у нее там не получилось. Частная комнатка с узким окном была сырой, хозяйка, худая, много курящая женщина, не разрешала ей почему-то ночью ходить в уборную. Естественная надобность превратилась в муку. Она, как назло, все время туда хотела. Это стало каким-то пунктиком. Села писать сочинение и тоже захотела. Какой уж там образ Катерины! Что-то там накарябала на тройку. Можно было сдавать дальше, еще оставались шансы получить четверку по устному и пятерку по любимой географии, но ничего не хотелось… Хотелось домой… И она уехала, бросив экзамены, согрелась в душном вагоне, отошла. Молоденький офицер сговаривал ее сойти в Москве. Он чуть не силой тащил ее на вокзале, но она ему сказала: «Да что вы мне – Москва! Москва! Большинство же людей живут не в ней! Так вот я из большинства… Мне она на дух не нужна».
Она переехала в Москву через два года. А до того был Зинченко с черной машиной посреди улицы.
– Выходи за него, дочь, выходи, – горячо шептала мать. – Он сильно в гору пойдет… И с виду он вполне представительный… Плечи у него разворотистые… Глаз сурьез-ный…
Зачем пошла? Почему пошла?
Опустела станица осенью, разъехались, кто учиться, кто в армию, кто куда… Одна она сидела дома, помогала матери наметывать крой. Скучное это было дело. Рвалась у нее нитка, наперсток сидел как-то косо, стук машинки разъедал душу, и думалось, что впереди нет ничего. Валька Кравчук прислал фотографию. Нет, он ей не нравился. Он был ей неприятен так же, как и Зинченко, – своим вниманием, своей влюбленностью. А хитрый Зинченко вроде как понял это. Стал вдруг приезжать реже, потом и совсем исчез.
– Дура ты, дура! – твердила ей мать. – Ну за кого ты тут пойдешь?
Зимой Зинченко приехал снова. Стояла машина, как всегда, посреди улицы, а Николай сказал, как отрезал:
– Мне некогда с тобой хороводы водить. Ты решай – да или нет. Квартира на подходе.
– Да, – сказала она так быстро, что Николай даже опешил.
Потом он ей же будет говорить:
– Ну, ты у меня сдалась без боя. Я приготовился к осаде там или блокаде, а ты ручки вверх и – сдалась! Даже неинтересно стало…
Заметалась во дворе мать, отрубила впопыхах хорошей несушке голову, побежала в сельмаг, стала хватать всего без разума, консервов каких-то, каменного шоколада.
– Уберите банки с глаз, – строго сказал Николай в первый же вечер. – И чтоб никогда… Огурчик, помидорчик соленый… Другое дело… Сало – очень замечательно. А магазин на стол не ставьте…
С тех пор всегда никаких консервов. «Что мы, нищие?» Только домашнее или рыночное. Консервы – это уж полная гостевая неожиданность. Тогда он, морщась, открывает банки, у него это получается плохо, банки ощериваются со стола острыми зубцами краев. О не понравившемся ему человеке он говорит: «Шпрота, а не мужик».
Было за него стыдно. Что ж он так о людях? Но забывала быстро. Может, потому, что сама людей никогда не судила и определений им не давала? «Все у тебя хорошие», – бурчал Николай. «Конечно, не все. Но ведь и мы не ангелы». – «Мы – ангелы, – смеялся Николай. – Ты в первую очередь… Ангел на подводных крыльях». Долго хохотал над идиотской шуткой. Он ведь такой: только свои шутки – у него шутки.
Как-то ночью скоропостижно умер сосед по площадке. Затарабанила в дверь его жена, босая, в ночной рубашке, в бигудях; кричала, звала на помощь. Николай сделал, что надо, а Татьяна осталась до утра с соседкой. Металась та по квартире уже без слов, без крика, остановиться не могла. Было в этом движении что-то до ужаса бессмысленное, ведь не двадцать минут ее кружило – считай, всю ночь. Татьяна же сидела камнем, с одной, как ей казалось, единственной мыслью – не сделала бы что с собой соседка.
Потом узналось – это была хоть и безусловно важная, но, так сказать, «верхняя» мысль. Билась же под ней мысль главная. Нет, это была не мысль о собственной смерти, хотя и она была тоже, не могла не быть. «Плохая смерть, – думала тогда Татьяна. – Плохая! Что бы там люди ни говорили… Надо поболеть, чтоб привыкли потихонечку. Как ее кружит, жену-то…
Это было страшное кружение… Пробеги из комнаты в комнату… Хлопанье дверьми… Что оно значило? Было ли способом успокоиться или способом утвердиться, что живая? Живая, потому как движется. Татьяна увидела себя со стороны. Неподвижную, застывшую, временами даже немигающую… Даже страшно стало… Показалась сама себе мертвой.
«Глупости! – сказала себе сама. – Придет же такое в голову! Мертвая…»
Но думалось, думалось… Она тогда шла к зеркалу, будто боялась, что однажды не обнаружит своего отражения. Но, слава Богу, обнаруживала. «Как-то я не так живу», – прошептала себе. И женщина в зеркале повторила то же.
Татьяна тогда еще не работала. Фаина Ивановна по этому поводу поджимала губы. Как это не работать в наше время? Не в деньгах дело, в принципе… Ее муж – кандидат наук, заведует отделом, у него оклад приличный, но она имеет свою ставку в школе и чувствует себя полноценным человеком. Николай же – ответорганизатор в комсомоле, самая хлопотная должность, все время в командировке, что ж это за жизнь у Татьяны – при горшке и манной каше? Фаина Ивановна часами воспитывала Татьяну по телефону. Однажды Татьяна не выдержала и неожиданно для самой себя рванула из аппарата гофрированный шнур. Испытала счастье от тишины и так и жила спокойно и умиротворенно без телефона. Вернулся из командировки Николай, взял оторванную трубку, громко засопел и положил обратно, потому как присоединить ее не умел. Вызвать же мастера посчитал для себя стыдным. Так и жили по старинке, пока не понадобился телефон соседу по площадке, который потом умер, и он присобачил трубку. Но Фаина больше не звонила.
Жизнь же Татьяны была в это время очень медленной, почти стоячей. Она одевала Лору, давала ей ведро и совок и шла с ней на ВДНХ. Садилась на лавочку и смотрела на людей. Зачем, думала она, этой узбечке полная авоська мыла «Медок»? Представляла себе карту СССР с розовым сапожком Узбекистана. Мысленно забиралась на пик Ленина и пыталась издалека из-под козырька ладони углядеть Аральское море. Воображаемое море обязательно материализовалось здесь, н а а ллеях выставки, в какого-нибудь реального моряка, который в распертой авоське нес пять коробок с коньяком «Кизляр». «Кизляр – так Кизляр, – лениво мечтала она, – это почти дома».
Если с пика Ленина шагнуть в Аральское море, то еще один шажок и – Каспийское. Встряхнись на каком-нибудь Тюленьем островке и прямо в холодную дельту Терека. Северные ветры приносят туда вечерами запах полыни станицы Раздольской. Что там сейчас делает мама? Строчит на машинке… Ситцевое платье – пять рублей. Штапельное – восемь. Крепдешиновое – десять. А вот идет иностранка черт-те в чем. В мешке. Два шва – слева и справа. За такой фасон мама ничего не взяла бы. Что кому подрубить или там обузить – за это мама не берет. Не мелочится.
Иностранцы, как ненормальные, всегда сюсюкают над Лоркой. Хорошенькая девочка, хорошенькая девочка, а главное – смелая. Шныряет в разношерстной толпе, как у себя дома. Не боится людей. Татьянаудивляется этому и втайне этим гордится. Она ведь сама толпы боится. Она, деревенщина, и метро не любит. В метро она не может сообразить, где находится, в какой части карты… Купила специальную схему, пальцем провела по линиям, но подземная карта под живой рукой не ожила…
Дочку растила до одури сонная, заторможенная, не присутствующая в жизни женщина.
Приезжал из командировок Николай, привозил сувениры. Она нюхала их, гладила, даже лизала и продолжала играть в эту сумасшедшую тихую игру с картой. Например, думала, как лучше всего, в три взмаха крыльев, перелететь от янтарной брошки из Прибалтики к оренбургскому платку. Варила борщ, а была далеко, далеко… Летала за помидорами в Молдавию… Оранжевый такой обломок зуба на самом краю карты…
Потом приехала в Москву Наталья, жена Вали Кравчука. Валю она сто лет знала. Бедовый был, бедовым остался. Весь как нерв. А Наталью она по их школе не помнила, как обычно не помнят старшие ученики младших. В отличие от Татьяны Наталья в институт поступила, в педагогический, на русский и литературу, год там проучилась, родила, перешла на заочный. Она, конечно, приехала в Москву со всеми документами, хотела оформиться в институте… Именно с приездом Натальи Татьяна вроде ожила. Наталья первая задала ей разные вопросы, которых никто ей никогда не задавал. Она спросила, любит ли она мужа. Спросила, что будет с ними дальше, потом. Татьяна была старшей, старший обязан отвечать.
И она обстоятельно, все продумав, отвечала. Что про любовь говорить, если она второго уже носит? Наталья засмеялась. Если не будет войны, то все будет с ними хорошо. Жизнь ведь постоянно улучшается. Татьяна понимала, что ответы ее были глупые, но других она тогда не знала. А Наталья металась. У нее ничего не вышло в Москве с институтом. Группа, в которую она попала, с отвращением ее отторгла. За то, что та примитивно любила Есенина и музыку Пахмутовой, душилась «Красной Москвой» и произносила фрикативное «г». Это на русском-то факультете!