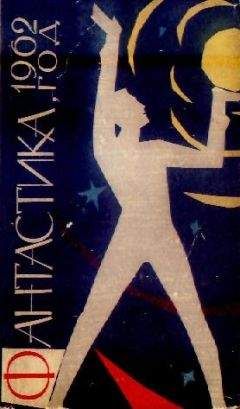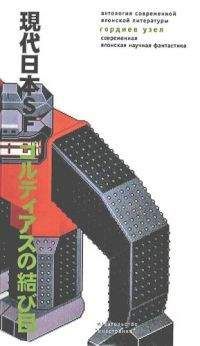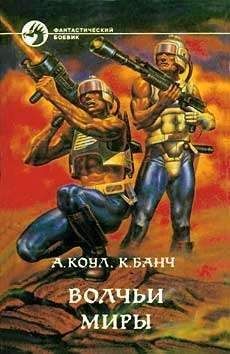Константин Леонтьев - Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве. Письмо к Ник. Ник. Страхову

Обзор книги Константин Леонтьев - Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве. Письмо к Ник. Ник. Страхову
Константин Леонтьев
Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве Письмо к Ник<олаю> Ник<олаевичу> Страхову
М<илостивый> г<осударь!>
Незадолго до кончины Ап. Григорьева я познакомился с ним {1} . Имя его я знавал и прежде – в первой моей молодости я читал его статьи в «Москвитянине» и сам тогда не знал, верить ли ему или нет? Слог его я находил смутным и странным; требования его казались мне слишком велики. По критической незрелости моей я тогда был поклонником «Записок охотника», и мне казалась возмутительной строгость, с которой Григорьев относился к первым произведениям Тургенева {2} . (Григорьев отнесся иначе к более зрелым произведениям этого писателя и доказал этим свой критический такт.) Однако многое и из тогдашних его статей осталось у меня в памяти, и суждения не только о наших, но о А. де Мюссе и др<угих> иностранных писателях, я и тогда это чувствовал, были исполнены глубины, изящества {3} . Я чувствовал это и тогда, но отчасти благодаря моей собственной незрелости, отчасти благодаря ширине духа самого Аполлона Григорьева, с трудом вмещавшегося в слово, я все-таки повторял: «Непонятно, чего хочет этот человек!»
Я не понимал, напр<имер>, тогда ясно, почему Григорьев, отдавая справедливость дарованию Писемского, столь сильно предпочитает ему Островского. И в том, и в другом я видел лишь комизм. Я не умел тогда понять, что Островский более положительный писатель, чем Писемский, что положительность его особенно дорога своим реализмом, ибо положительность его изображений была не в идеале, а в теплом отношении к русской действительности, в любви и поэзии, с которой он относился к нашему полумужицкому купеческому быту, несмотря на его суровые стороны и не скрывая их.
Апол<лон> Григорьев искал поэзии в самой русской жизни, а не в идеале; его идеалом была богатая, широкая, горячая русская жизнь, если можно, развитая до крайних своих пределов и в добродетелях, и даже в страстной порочности.
Так я понимаю его теперь; быть может, я и ошибаюсь, Вам, как ближайшему его другу, предстоит исправить мои ошибки.
Ап. Григор<ьев> стоял особняком. Московские кружки – западников и славянофилов – одинаково отталкивали его.
Разгульная ли жизнь Григорьева, чувственность ли, дышавшая в мыслях его, не нравились строгим славянофилам, известным чистотою своей семейной и личной жизни, но Григорьев близок с ними не был.
Между Аксаковыми и Григорьевым была та же разница, какая есть между теми вполне русскими стихами Кольцова, где дышат нравственность и чистая вера, и теми тоже вполне русскими стихами Кольцова, где дышат разгул, тоска по разгулу и чувственность.
Со славянофилами я лично не был знаком; зато изустные отзывы передовых людей другого рода о Григорьеве были мне хоть урывками, но хорошо известны. Я бывал тогда нередко в одном доме {4} , где встречал Кудрявцева, Грановского, Боткина, Тургенева и др.
Тургенев был всегда блестящим светским человеком, капризно-остроумным в обществе вроде так хорошо изображенного им Горского («Где тонко, там и рвется»).
Он любил небрежно и даже презрительно отзываться о своей собственной литературной деятельности; ценил высоко только Пушкина и Гоголя, а из современных ему авторов отдавал справедливость всем, не восхищаясь ни одним. Строгость его к другим выкупалась, как я сказал, строгостью его отзывов и о собственных произведениях (тогда еще не были им написаны ни «Рудин», ни «Дворянское гнездо»).
Ап. Григорьева он называл: «Огромный склад сведений и мыслей, без всякого регулятора». Раз он сказал при мне:
– Я ужасно люблю тех, которые меня бранят; Ап. Григорьев только исключение; он меня бранит – и я его ненавижу…
Боюсь, что в этом причудливом отзыве баловня судьбы и общественного вкуса крылось тайное сознание того, что из немногих порицателей его только один Григорьев был прав.
Что касается до первого отзыва (т. е. «Григорьев есть склад мыслей и познаний без регулятора»), то я не слыхал его от самого Тургенева; мнение это передавал при мне покойный профессор Кудрявцов.
Частная жизнь Григорьева и того круга, к которому, как слышно было, он тогда принадлежал, жизнь, так сказать, неряшливо-разгульная, не нравилась и не могла нравиться тому обществу литераторов, в которое я был вхож. Я по молодости подчинялся тому, что слышал.
Даровитые и ученые люди этого круга жили все готовыми, ясными европейскими идеями и вкусами; за ними жил тем же самым и я; мне, по крайней моей молодости, казались одинаково чуждыми и славянофилы, и Григорьев со своим неуловимым идеалом.
Прошло много лет; я долго жил, слава Богу, вдалеке от столиц и от мелкого обмена литературных кругов и приехал в Петербург, когда только что стал выходить журнал «Время» {5} . Я не стану объяснять здесь подробно, почему «Время» удовлетворило меня сразу более, чем «Современник», «Русский вестник» и «Отечеств<енные> записки»; я скажу только, почему «Время» было мне тогда более по сердцу, чем взгляды московских славянофилов.
Под влиянием отвращения, которое во мне возбуждал «Современник», я стал ближе всматриваться и в окружающую меня русскую жизнь, и в те проявления ее, которые я встречал во время моих странствий; я начинал уже чувствовать в душе моей зародыши славянофильских наклонностей, но не дозрел еще, не дорос до отвращения к избитым и стертым, как «крыловский червонец», формам западной жизни.
К тому же многое рано прожитое было дорого сердцу, и к близкому, еще теплому прошедшему можно отнестись тогда лишь вовсе холодно, когда оно заменилось более высоким, более полным идеалом. Московские славянофилы имели этот идеал; для них он давно был ясен: русский мир и союз его с самодержавием, земская дума совещательная с полной свободой действия верховной власти; русская песня и русские обычаи; горячая вера в Православие, добро и прекрасное; и чистота семейных нравов, полная внутренней свободы, веселья и любви.
Для меня идеал этот тогда не был еще ясен; и даже отношения мои к тому, что в нем мне было ясно, не были еще теплы.
Я видел, что к Онегину, Рудину и другим подобным лицам, с которыми прожила моя юность, славянофилы относятся сухо и если не громят их идеалы и их образ жизни так, как громят «нигилисты», то это лишь оттого, что литературные приемы славянофилов были вообще более возвышенны, более чисты и просты, чем приемы нигилистов, которых сила была в желчи и площадной цветистости…
Во «Времени» я встречал именно то, чего мне хотелось: теплое отношение к нашему недавнему прошедшему, к нашему европейскому, положим, но все-таки искреннему и плодотворному разочарованию. Другая черта, которая ко «Времени» влекла меня более, чем к московскому славянофильству, была следующая: «Время» смотрело на женский вопрос (собственно на его психическую, а не грубо-гражданскую сторону) менее строго, чем смотрели московские славяне. Московские славяне переносили собственную нравственность на нравы нашего народа. Я сомневался, правы ли они. Мне казалось, народ наш нравами не строг, и очерки Писемского («Питерщик» и др.) казались мне более русскими, чем благочинные изображения Григоровича. (Здесь не место объяснять, счел ли я себя и «Время» правыми впоследствии или нет.)
Следующие стихи {6} Ап. Григорьева
Русский быт —
Увы! – совсем не так глядит,
Хоть о семейности его
Славянофилы нам твердят
Уже давно, – но, виноват,
Я в нем не вижу ничего
Семейного… О старине
Рассказов много знаю я,
И память верная моя
Тьму песен сохранила мне
Однообразных и простых,
Но страшно грустных…
Слышен в них
То голос воли удалой,
Все злою долею женой,
Все подколодного змеей
Опутанный, – то плач о том,
Что тускло зимним вечерком
Горит лучина, – хоть не спать
Бедняжке ночь, и друга ждать,
И тешить старую любовь, —
И т. д. и т. д.
мне казались, вернее специфировали великорусса, чем «Четыре времени года» Григоровича и др<угие> тому подобные вещи. Не отрицая явлений и такого рода, я говорю только, что не они характеристичны для нашего крестьянства, для великорусскоказачества, для миллионов раскольников наших, в высшей степени великорусских – особенно когда мы хотим сравнить их с благочестивыми и тяжелыми землепашцами Западной Европы.
Поэзия разгула и женолюбия, казалось мне, не есть занесенная с Запада поэзия, но живущая в самых недрах народа.
Итак, эти две черты: теплое отношение к печальным, но изящным идеалам <18>40-х годов и меньшая строгость по женскому вопросу влекли меня более ко «Времени», чем к московским славянам, хотя я с каждым годом все более и более чтил их.
«Время» не выяснило определительно своей задачи, Вы с этим должны согласиться; главная вина «Времени» против публики (и еще более против самого себя) была та, что оно не выработало в собственно гражданских отделах своих ничего своеобразного; если бы в гражданских отделах своих оно, по крайней мере, бы держалось явно славянофильского идеала, то дела пошли бы лучше. Но оно, кроме простой демократии, которая с большей силой и ясностью проповедовалась в «Современнике», ничего не давало. Но в этом виноваты были не Вы, не Григорьев.