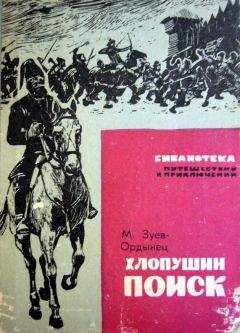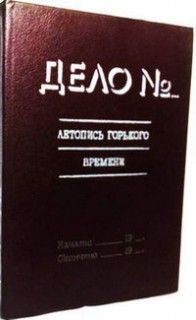Михаил Зуев-Ордынец - Вторая весна
— А почему он не хочет вытаскивать машины буксиром? На мой взгляд, людей мучают напрасно, — сердито сказал Борис.
— А-а, и вы здесь? — обернулся Неуспокоев и окинул Бориса невнимательным взглядом. — Воспеваете эту бестолковщину? Ну-ну. А вы бы Садыкову и сказали про буксир.
— Сказал.
— Любопытно, и что же?
— Тоже закричал и руками замахал: «Передний мост разболтается! Вся подвеска к шайтану!» Ему передний мост дороже людей.
Неуспокоев подумал, сцепив пальцы, и сказал, строго глядя на Бориса:
— А он, пожалуй, прав! Если мы покалечим машины, положение у нас будет аховое! Нет, этого нельзя допустить! Нам гнать надо вовсю!
Он снова посмотрел на ручей, где ребята раздраженно переругивались около застрявшей машины.
— Кажется, я тоже полезу сейчас в грязь толкать проклятую машину!
— Не глупите! — положила Шура руку ему на рукав. — Ну чем вы можете помочь?
— Вот этими руками! — широко развел руки прораб и поднял их, выжимая невидимую штангу. — Имейте в виду, у меня жим — девяносто, рывок сто десять. А здесь не столько руки нужны, сколько голова. Голова нужна!
— Да что с вами, Николай Владимирович? — послышалась в голосе Шуры ласковая тревога. — Почему вы так волнуетесь?
— Сам не знаю, что со мной, — доверчиво посмотрел на нее Неуспокоев. Глаза его, в длинных девичьих ресницах, блестели чересчур ярко, лихорадочно, как у изголодавшегося или азартного игрока. — Я сейчас как наизнанку вывернутый. Все чувства наружу! Ехать нужно, работать начинать нужно, дорогая Александра Карповна, а мы без толку в грязи валандаемся! Нет, вы посмотрите на эту дикость! Расстановка людей неправильная! Вое кричат, все командуют, а команду никто не слушает. Не могу! — возмущенно крикнул прораб. Обрывая пуговицы, он расстегнул пальто и сунул его Шуре, пахнув приторными духами. — Держите! Надоест держать — бросьте. И приготовьте ваши сто граммов.
— Там уже Садыков, — с хмурой насмешкой сказал Борис. — Есть кому командовать.
— Шляпа ваш Садыков! — резко бросил Неуспокоев и, повернувшись, помчался к реке, легко и высоко прыгая через лужи, согнув по-спортсменски руки в локтях.
— Сумасшедший! Правда, Борис Иванович? — посмотрела Шура горячими глазами на Чупрова.
— Не согласен, — спокойно ответил Борис. — У него же все «по велению ума».
А прораб ворвался уже в толпу ребят и расставил их по-другому — не только к заднему, но и к боковым бортам, и к кабине, и к передним крыльям. И машина пошла, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, выбрасывая в обе стороны веера жидкой грязи. Кипела, бултыхала, чавкала тяжелая грязь, ревел мотор, ребята кричали, теперь уже дружно и весело:
— Раз-два, взяли!..
Кричал вместе с ними и Неуспокоев, а солнце, зажигая в грязных брызгах мгновенную, но яркую радугу, превращало тяжелую, грязную работу в смешную, веселую игру.
— Я поняла, в чем тут дело, — воскликнула Шура. Лицо у нее было счастливое и нежное. — Нужен пример, веселый, зажигающий, чтобы работа за душу взяла! И тогда самая тяжелая и неприятная работа становится красивой и веселой.
Борис самолюбиво насупился и не ответил. Он с завистью и даже вспыхнувшей враждебностью, которую тотчас же постарался заглушить, думал о Неуспокоеве: сделал на копейку — полез в грязь, только и всего, а как ярко и красиво у него это получилось. И сам он, красивый, ловкий, нарядный, и в грязную работу ворвался весело, азартно, и солнце зажигает над ним ликующие радуги, и с берега глядят на него ласковые девичьи глаза.
Делая вид, что жмурится от солнца, Борис исподтишка посмотрел на Шуру. Ну конечно, он для нее сейчас не существует, все ее внимание отдано одному Неуспокоеву. Она смотрела на ручей, а когда доносился оттуда голос Неуспокоева, затаенно улыбалась и, сама того не замечая, прижимала к груди его модное пальто.
Позабыв жмуриться, Борис смотрел на нее уже открыто и жадно. И, непонятно взволнованный, видел, словно впервые и по-настоящему, ее узкие, длинные, подтянутые к вискам глаза, ее жестковатые выступающие скулы, широкий, чуть приплюснутый нос и припухшие, как неумело нарисованные, губы. Совсем китаянка, но светлокожая и светловолосая, с гладкими лакированно-блестящими русыми волосами. Бориса волновала и трогала ее доверчивость к людям, ее очень правдивые глаза и та милая простота во всем облике, которой нельзя подражать: получится фальшь.
Шура почувствовала, что Борис на нее смотрит, и ответила лукавым, изучающим взглядом. Борис смутился, как пойманный во время подглядывания.
— Извините, вспомнил… спешное дело, — пробормотал он и торопливо отошел, сделав озабоченное лицо.
Выйдя на дорогу, он оглянулся и посмотрел на ручей. Завязшая машина уже поднималась на противоположный берег, а к ручью спускались очередные машины. Ребята ждали их на опасном, топком месте. Они кричали, гоготали, пинали друг друга под бока, а лица их — блестели от горячего молодого пота. Среди них стояли прораб и Садыков. Они тоже кричали, гоготали и с размаху били друг друга по плечам. Прораб был заляпан грязью выше колен, в грязи были и его руки до локтей. А глаза — яркие и горячие, как у игрока, дорвавшегося до игры.
«Вот чертушка! — с вернувшейся симпатией к прорабу, улыбаясь, подумал Борис. — А все-таки он хороший парень. И вообще все хорошо!..»
На дороге, где стоял Борис, было безлюдно и тихо. Слышно стало порханье ветра и птичьи голоса в небе. Пахло ожившей землей, молодыми травами, свежим ветром. Борис поднял лицо к небу, забыв на губах улыбку. От солнца, от ветра, от запахов весны в теле было горячо и звонко…
* * *Переправившись через ручей, колонна снова устремилась на восток, оставляя на коротких стоянках затоптанные костры, окурки, консервные банки, запах пролитого бензина. Придет сюда степной рыжеватый волк, опасливо понюхает и, учуяв злой бензиновый запах, порскнет ошалело в сторону.
К концу дня, когда степь задумалась, задымилась сумерками, когда на западе раскинулся ослепительный, охватывающий полнеба закат, колонна подошла к Цыганскому двору.
В первый день было пройдено двести километров — точно по графику завгара Садыкова.
Глава 7
Цыганский двор
Под булькающие печальные звоны верблюжьих колокольцев шли пыльные караваны из Китая, Ирана, Афганистана, Индии. На верблюжьих горбах качались купцы, пилигримы, ученые, послы, невольники и тюки товаров. Потом караванная дорога стала почтовым трактом, и под залихватский звон и бряк поддужных колокольчиков помчались российские тройки с ямщиками казахами на облучках. В те годы и вырос здесь, на берегу небольшого озерка, шумный постоялый двор, с трактиром, конюшнями, крепкими амбарами для купецких товаров. Держал этот двор, видимо, цыган, поэтому и теперь, когда тракт заглох и затравенел, а в бывших амбарах табунились волчьи свадьбы, оставляя клоки шерсти и помет, сохранилось за этими полуразвалившимися постройками название — Цыганский двор.
И вот снова ожил старый постоялый двор, зашумел людскими голосами, смехом, песнями. Первое, что увидел Борис, войдя на Цыганский двор, была автолавка. Будка ее была обклеена неожиданными плакатами: «Пейте советское шампанское!» При свете карбидового фонаря бойкая продавщица ловко орудовала длинным ножом и щебетала:
— Стимулируем вас, дорогие товарищи целинники, рулетом и языковой колбасой. Подходите, не стесняйтесь, на всех хватит!
— Заманивают… Обходным, как сказать, маневром бэруть, — подмигнул стоявший здесь же Шполянский водителю с лицом в крупных и частых, точно наклеванных курицей рябинах.
Тот, укладывая в полу тужурки толстые куски рулета, горько вздыхал:
— Эх, и богатая же закуска пропадает!
— А мабуть, и не пропадеть! — скользко бросил Шполянский.
— Ну-у? — жадно посмотрел на него шофер. — Да ведь дед Корчаков сухой закон объявил. Грозился: сто раз подумайте сто граммов выпить.
Увидев Шполянского, Борис невольно начал искать и Мефодина. Ну конечно, и он здесь, стоит рядом со Шполяйеким, щурится от яркого света фонаря и хохочет:
— Сухой закон, по-американски — прогибишен! А по-русски — погибишен!
Он удало трясет кудрями. Они вьются у него сейчас как-то особенно пышно, празднично, а на лице его такая радость, такая доброта, будто он всему белому свету хочет сделать что-нибудь приятное.
— Чтой-то ты, Васька, сегодня такой веселый? — заулыбался и рябой шофер. — Сто тысяч, что ли, выиграл?
— Выиграл! И не сто, а больше! Нет, ты скажи, почему я в тебя такой влюбленный?
Они, хохоча, отошли от лавки.
В дальнем конце двора, в большом здании с развалившимся крыльцом и остатками тесовой крыши, в бывшем трактире светились пустые оконные проемы и слышались голоса. Борис подошел и заглянул. Прямо на полу, кто сидя, кто полулежа, кто на корточках, расположились своею компанией водители. Горел большой карбидный фонарь, и от его едкого света на стены и потолок легли угольно-черные тени. Водители закусывали и разговаривали сразу в несколько голосов: