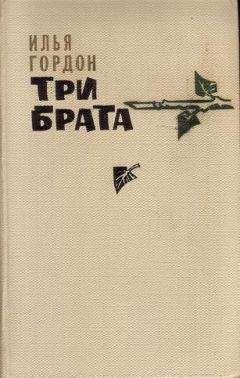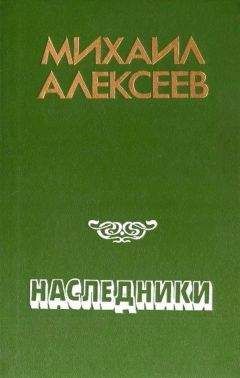Самуил Гордон - Избранное
Когда на обратном пути Симон проходил переднюю комнату, ему показалось, что Лида не спит. Он ничем не выдал, что заметил это.
Было уже далеко за полночь. Ни одно окно в домах напротив не светилось. Ночь тихой поступью шла по земле. Ее вовсе не касалось, что так разволновало в журнале Симона, почему не может он оторвать от него взгляда, листает страницу за страницей и снова возвращается к тому месту, где напечатаны его стихи. Симон прочел их вслух.
Он еще не совсем вник в смысл стихов, напечатанных задолго до войны. Но для Симона это было не столь важно. Его захватило в стихах само их звучание. Читал он еще не бегло, но уже и не по слогам, как вначале. Он читает и прислушивается к сокровенной музыке каждого произнесенного слова.
И так вслух, один раз, потом другой и третий, прочел он все четыре стихотворения.
Не сегодня и не завтра, но пройдет время — и поймет он не только значение всех слов в своих стихах, но и всю глубинную суть их и постарается перевести их на русский язык, уже давным-давно ставший его родным языком. Но как ни свободно владеет им Симон, он понимает, и тоже давным-давно, что с речью нужно родиться, и особенно чувствует это, когда садится за письменный стол. Ему ведомы, кажется, все слова, помещенные в словарях, и все же чувствует себя стесненным, а в ранней юности, когда писал на еврейском, стих его был свободен. Не надо было звать слова, они сами шли к нему, неслись. Прорва слов. То видно по написанным им в далекой юности четырем еврейским стихам.
Яркий свет близко придвинутой настольной лампы падает на разложенные фотографии всех детей и внуков Симона. Тут и любительская фотография правнука Антошки. Она в ряду восьмая. Симон долго вглядывается в каждого из них, ищет в каждом сходство с собою. Дольше всех задерживает взгляд на портрете Даниеля. Даниель был и остается первенцем, но он уже не единственный наследник фамилии Фрейдин, племени Фрейдиных, как называл дед Симона, реб Борух, всю семью.
Ах, какая досада. Из журнала вырван лист. Начало поэмы, которая читается легко, и ему пока понятны в ней почти все слова. Листа с содержанием, где названы авторы и их произведения, тоже не хватало. Как же узнать, переведена ли поэма на русский? Если еще нет, он с удовольствием переведет ее, ему это будет нетрудно. Поэма написана просто и понятно, таким языком говорила его мать, говорили соседи, говорили все у них в городе. Как же получилось, хочет понять Симон, что язык его тогдашних еврейских стихов совсем другой, будто позаимствован где-то в чужом краю.
В середине поэмы, которую продолжал читать, Симона вдруг поразила строка со странными непонятными словами. И как, работая над стихом, не может он обойти в нем неудавшееся место, не примется за следующую строфу, пока не доведет до совершенства предыдущую, так поступает он и при чтении. Но ясно ему пока было одно: слова в строфе «ейлэ тойлдес якев» не из еврейского, а из священного языка, лошенкойдеш, как некогда называли язык, на котором он мальчиком учил в хедере тору и на котором молился. Наверное, оттуда, из торы или из молитвенника, взяты эти слова: «Ейлэ тойлдес якев…»
Симон прислушивался к мелодии, с какой произносил стих, словно хотел через нее постичь его смысл. Стрелки настенных часов показывали уже далеко за полночь, но до рассвета было еще далеко. Разве что часы опять сильно отстают. Симон подошел к окну и приподнял занавеску. На улице шел снег. От падающего снега исходил свет, как будто рождалось утро.
«Ейлэ тойлдес якев».
Строфа не давала покоя, не хотела отвязаться, и Симону уже казалось, что он где-то встречал этот стих. Где? Это могло быть только в хедере. Кое-что из того, что учил он тогда, сохранилось в памяти. Долгие годы помнил он начало нескольких молитв и смысл их.
«Ейлэ тойлдес якев».
Строка из поэмы не давала ему покоя и возле окна. Она повторялась в нем, и каждый раз на иной лад.
«Ну, на сегодня довольно, — сказал себе Симон, — дочитаю завтра».
Он закрыл журнал и, прежде чем положить фотографии назад в альбом, снова стал вглядываться в каждую из них.
«Ейлэ тойлдес якев — это сыновья Иакова», — вдруг запело в нем.
Симон поднял голову от стола и замер, недоумевая, как постиг смысл этих слов, как памяти удалось пронести их из далеких лет отрочества в хедере аж до сих пор, до старости?
«Почему вдруг Иаков? — спросил он себя. — Почему не Симон? Ну да, Симон», — он нагнулся к ярко освещенным фотографиям своих детей и внуков и на торжествующий мотив запел:
— Ейлэ тойлдес Симон, это твои сыновья, Симон.
И снова, будто убеждая себя:
— Это твои сыновья, Симон.
С гор налетел ветер, и снежинки закружило в стремительном хороводе. Симон стоял у окна, смотрел, как танцуют снежинки, и пальцы его пробежались по подоконнику, как по клавишам рояля.
Перевод М. Вайнера.
ПРОЩЕНИЕ
Повесть
I
Даже открыв глаза раз и другой и оба раза увидев перед собой все те же цветастые шторы на окнах, а за ними, на улице, все ту же бледно-желтую лампу на столбе, Урий Гаврилович был еще не вполне уверен, наяву ли совершается то, что происходит с ним в эти мгновения, или это до сих пор тянется тяжелый путаный сон. Не впервой уже случалось ему просыпаться и затем, лежа в полудреме, с закрытыми глазами досматривать прерванный сон до конца. Ему даже помнится, что как бы дико и нелепо ни были перепутаны дальнейшие события, он мог потом легко пересказать их с мельчайшими подробностями — так ясно и отчетливо все видел. И каждый раз, когда он, лежа с закрытыми глазами, прислушивался к тому, что происходит с ним и вокруг него, Уриэль даже в полудреме ни на мгновение не забывал, что все это совершается во сне, но вмешаться, остановить события не удавалось, хотя, как ему помнится, он уже неоднократно пытался сделать это. Очевидно, не он руководит событиями прерванного сна, а они руководят им.
Кажется, то же самое происходит с ним и теперь. Уже довольно долго он лежит с закрытыми глазами, но тяжелый запутанный сон все не отпускает его. Сон, как и прежде, держит его под прессом и сжимает все сильнее и сильнее. Еще одно малейшее нажатие — и затрещат ребра. Нет, он не может больше ждать, он должен вмешаться, оборвать слишком затянувшийся сон.
Урий Гаврилович садится, спускает ноги с кровати, касаясь ими прохладного пола, нашаривает в темноте очки на ночном столике, раза два даже надевает их, словно все еще не желая верить, что он наконец совсем освободился ото сна и ему уже не придется больше карабкаться на острую скалу и, летя с нее в глубокую долину, попадать под пресс, из-под которого он до сих пор не может выбраться. Непонятно, почему все время давит левый бок, и так сильно, что скоро он не сможет перевести дух.
Сейчас уже наверняка дико думать, что все это происходит не наяву. Тому бесконечно много признаков: вот только что было темно, а вот он протянул руку к выключателю — и сразу стало светло. Он ожидал, что увидит вышитые пестрые цветы на спущенных шторах, веселые березки на обоях, хрустальные вазы и бокалы в серванте, красные, синие и зеленые свечи в бронзовых канделябрах на стенах, мягкие стулья с высокими спинками вокруг полированного стола и низкие кресла по углам, — и он увидел все это. Уриэль даже включает транзистор и секунду прислушивается к оглушительной музыке, ворвавшейся в комнату. Во сне он ведь не сказал бы себе: «Выключи сейчас же, после одиннадцати вечера должно быть тихо» — и конечно же не спросил бы себя вслух: «Для чего даже среди ночи транслируют такую музыку, что стекла дрожат?» Во сне он не услышал бы звука своих тихих шагов и не ощутил бы чуть сыроватую прохладу застекленной до половины балконной двери, к которой он прижался лбом.
Нет, он, разумеется, не спит. Но, наверное, и не совсем еще проснулся, раз боль, охватившая его во сне, до сих пор не отпускает. Желание убедить себя, что он еще не совсем проснулся, — сейчас его единственная надежда освободиться от невыносимой боли.
Постояв некоторое время у балкона, Урий Гаврилович выключает свет, опять ложится, плотно закрывает глаза и пытается связать нить прерванного сна, дотянуть сон до конца. И хотя Уриэль точно помнит, на чем нить прервалась, он никак не может связать ее и заранее знает, что уже не сможет, ибо он одновременно занят совсем другим: он хочет осознать, что же это за боль. Она не похожа ни на одну из тех, что ему пришлось когда-либо перенести. Насколько помнится, он всегда мог указать, где у него болит, и сказать, что болит, потому что боль шла изнутри, а эта, которая теперь охватила его и не отпускает, совсем другая, не внутренняя. Она идет извне. Достаточно, чтобы его освободили из-под пресса, — и сразу все пройдет. Но пресс не только не выпускает его, а, кажется, зажимает еще сильнее. Уриэль уже больше не закрывает глаза.