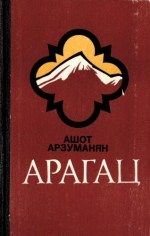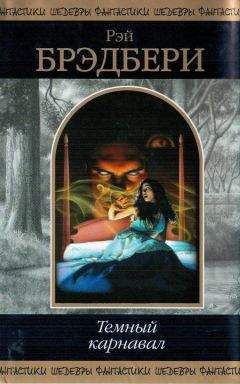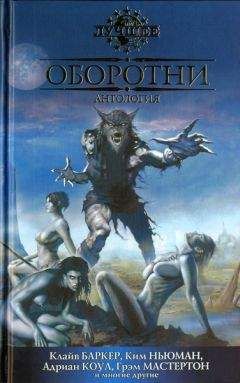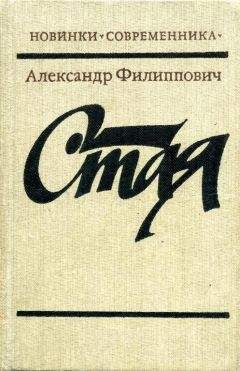Ихил Шрайбман - Далее...
На столе стояла тарелка с холодной фасолью от вчерашнего супа. «Подойди сюда, — зову я, — Ханцеле! И мама тебе даст фасоли». Она подходит к столу, раскрывает рот, и две щербинки во рту разбегаются в разные стороны: у нее в это время менялись зубки. Я зачерпнула горсть фасоли, вложила ей понемногу в обе ладошки, и она стала пересыпать фасоль из одной ручки в другую — ручки у нее были кругленькие, пухлые — и так постепенно всю фасоль умяла, начала смеяться, озорничать и, благодарение богу, выздоровела…
Надо, понятно, прислушиваться к словам Шекспира, Толстого, Шолом-Алейхема, к словам Хемингуэя, но иногда не мешает прислушаться и к маминым словам.
МОЙ ПЕРВЫЙ КРИТИК
В Рашкове были тогда в ходу у молодежи два новомодных слова: «оптимизм» и «пессимизм». Когда один спрашивал другого: «Ты, например, кто: пессимист или оптимист?» — тот, разумеется, отвечал: «Оптимист!»
Куда же девать пессимизм? И вот я однажды сел и написал рассказ, и дал ему название «Пессимист».
На подростка лет пятнадцати — героя моего рассказа — обрушиваются всевозможные беды. Хозяин прогоняет его с работы, когда узнает, что герой мой левых взглядов. В местечке он чувствует себя одиноким, никто его не понимает, вдобавок мать умирает от чахотки. Короче говоря, подростком овладевают мрачные пессимистические мысли. Он поднимается на чердак и продевает голову в петлю.
Я взял рассказ и пошел с ним к Пейсе Вассерману. Пейся Вассерман служил механиком на мельнице у Мойши Корноса. Во дворе, в отдельной постройке, где работал мотор, стоял верстак с большим винтом, с бесконечным количеством точил и точилок. В помещении пахло маслом и керосином. Присесть было некуда — так все замызгано. Пейся в лоснящихся штанах вытер черные руки жирной тряпкой и велел мне читать. Когда я закончил чтение, он неторопливо раскурил самокрутку и сказал:
— Что ж, красиво. Неплохо написано. Но то, что ты своему парню стянул веревку на шее, ни черта не годится. Наоборот: если парню в голову лезет всякая блажь, он должен набраться сил, задрать нос и воскликнуть: «Ах, как здорово жить на свете назло всем палачам!..» А так он у тебя задрипанный пессимист, не тот пессимист, который нам нужен…
Пейся Вассерман завершил работу, вымыл во дворе лицо, надел свою тужурку с четырьмя карманами, и мы вместе вышли немного погулять. Я шел молча. Что мне было еще говорить? Мне уже было совершенно ясно, что я должен изорвать, искрошить свой рассказ и крошки развеять по ветру, чтоб и духу от них не осталось.
На нашем горизонте появилась Женька — дочка Максима Лунгу. Женька Лунгу была самой красивой девушкой в Рашкове и в окрестностях Рашкова. Она шла нам навстречу с распущенными волосами в легком коротком платье и в ботинках на высоких каблуках. Она ступала, покачиваясь, как на пружинах.
Пейся Вассерман кивнул на Женьку и, раздувая ноздри, заметил:
— Ты только глянь на эти грудки — обрезаться можно!
Я не знаю, обращался ли он ко мне или таким образом объяснился с моим пессимистом, который, бедняга, в пятнадцать лет покончил с собой. Знаю только, что из-за этих нескольких слов я всю ночь не спал. Меня не столько огорчал рассказ, который я в тот же вечер действительно изорвал в клочья, сколько он, Пейся, считавшийся у нас самым сознательным и серьезным парнем.
Как же это Пейся после нашего разговора оскоромился подобными словами!
А когда я под утро наконец заснул, мной овладели кошмары. Мне снился Пейся — а рядом девичьи спины, бедра, грудки. И Пейся в ту ночь стал для меня «трефным», как для набожного еврея свинина.
Таким трефным, что дальше некуда.
СЛИШКОМ МАЛО И СЛИШКОМ МНОГО
Существуют писатели, поэты, которые написали две-три удачных вещи. Если бы к этим двум-трем удачным вещам прибавилось со временем еще несколько не уступающих им произведений, было бы ясно, что не произошло никакого чуда, ничего случайного. И из этих писателей, возможно, получилось бы что-нибудь путное.
И наоборот:
Существуют писатели, поэты, которые написали несколько удачных вещей. Если бы эти несколько удачных вещей остались единственными, не растворились бы в неистощимой «плодовитости», в которой их автор впоследствии захлебнулся, то, возможно, от этих писателей что-нибудь осталось бы.
Я говорю это не ради парадоксальности или оригинальности высказывания. Но потому, что подобные казусы я наблюдал своими собственными глазами, мог бы даже сказать, где и у кого.
Какой же выход? Золотая середина?
Думаю, что еще хуже. Писательство — такой же кровный враг слову «средний», как, например, словам: «нормально», «сносно» и еще нескольким десяткам таких же приличных слов.
Как больного ни положить, все равно не скроешь, что ему плохо, что ему больно… Что писательство — та же болезнь, конечно, можно оспорить. С тем, что писателям не так уж сладко живется, не каждый согласится. Но что писать больно, признает из стыдливости даже тот, кто при этом занятии никакой боли не испытывает.
Даже в своей левой пятке.
ЧИТАТЕЛИ
Большая литература должна, конечно, служить массовому читателю, миллионному читателю, как говорится.
Без этого о большой литературе и речи быть не может.
Вместе с тем большая литература, которая служит миллионам читателей, должна включать в себя нечто для сотен читателей и нечто для десятков читателей и нечто для одного… Для считанных читателей.
Без этого о большой литературе и речи быть не может.
РУКИ И НОГИ
Человек без детства — но такого ведь не бывает — так выразимся определеннее, яснее: писатель, в произведениях которого нет его детства, подобен нищему калеке без обеих ног на коляске с четырьмя железными колесиками под плоской платформой — вы, разумеется, такую низенькую коляску видели на старом рынке.
Образ, конечно, «художественный», даже скульптурный. Бюст, высеченный из мрамора или из бронзы. Но все же это убогий калека, инвалид, полчеловека.
У литературы должны быть ноги. Она должна на что-то опираться. Должна стоять и ходить.
СОЧНОСТЬ И ЦВЕТ
Несколько лет назад будучи в Киеве, я позвонил весьма уважаемому литературному критику и литературоведу, спросил как обычно:
— Что у вас нового? Как дела?
— Дела как сажа бела, — ответил он мне. — Уже неделю из дому ни ногой. Лихоманка напала, и не спрашивайте: дохаю да чихаю…
Этот разговор навел меня на такие размышления: литературная критика, эссеистика, публицистика, за что вам такое наказание, почему вы обделены тем образным народным языком, не пропитаны теми языковыми соками и красками, которые живут в тех, кем вы занимаетесь?
Я недавно перелистывал старые издания материалов о Черновицкой языковой конференции. Шолом-Алейхем, как известно, на эту конференцию не смог приехать. Он лежал больной на станции Барановичи. Свои соображения об языке идиш он прислал в Черновцы в письменном виде. На конференции в речах Шолома Аша и Переца переливались соки и краски, составляющие очарование и мудрость национального языка еврейского народа. Я имею в виду, конечно, не мысли о языке в этих речах, но самый язык, которым эти мысли были выражены. Что язык этот глубок, богат и органичен для народа, доказать очень просто — высказываясь глубоким, богатым, органичным народным языком. Когда мы перелистываем сейчас, отдаляясь на семьдесят лет, все, сказанное тогда на конференции в Черновцах, мы видим, что «документ», который исчерпывающе доказывает эту мысль, — единственное письмо Шолом-Алейхема. Точно не он, Шолом-Алейхем, а весь народ с помощью его письма пришел и высказался. И доказал.
Шолом-Алейхем в своем письме говорит о тех же вопросах языка, о тех же проблемах жаргона, о которых бубнят все кому ни попадя. Его письмо — не беллетристика. Скорее чистая публицистика. Но не поленитесь заглянуть в него. Шолом-Алейхем пишет о народном языке тем языком, которого требует народный язык. В течение почти тысячи лет народ обогатил так называемый «жаргон» живительными соками и разнообразием красок. Где-то красоты прибавил, где-то убавил. Все перемешано, перетолковано, перепахано и снова засеяно. Письмо Шолом-Алейхема свидетельствует, что за тысячи лет не только взошел новый национальный еврейский язык, но долгое время оставался единственным живым еврейским языком.
Язык — не наука. Язык — искусство. Язык — торжество фольклора. Народное творчество.
Я размышлял: литературная критика, эссеистика, публицистика — вы ведь тоже, кажется, ветви искусства, жанры искусства. Почему же вы не в силах принять этот дар — образный народный язык?
Почему те, кто творят вас, не могут впрыснуть в свои создания те же соки и краски, ту же кровь, которые живут в самих пишущих?