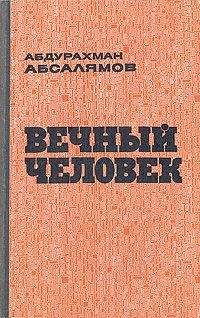Абдурахман Абсалямов - Огонь неугасимый
Он протянул трубку Назирову.
— Аван-абы, здравствуйте… — сказал он по-татарски. — Азат говорит… Уже и забыли разве? Назиров… Вот у товарища Гаязова сижу. Сейчас, сейчас, только пропуск выпишу.
Бросив трубку на рычаг, Назиров покачал головой, добродушно улыбаясь.
— Что, или не узнал?
— Вроде… Быстро, оказывается, забываются люди…
— Обижаться не надо… Авану Даутовичу порядком досталось поработать. И в семье у него… Ну, да ладно, об этом после. Хасан Шакирович болеет, покажемся Михаилу Михайловичу и пойдем в цех.
Как только Назиров ступил ногой на заводскую территорию, особенно с приближением к механическому цеху, волнение охватило все его существо. Не будь с ним Гаязова, он не выдержал бы, побежал — так рвался он душой к родному цеху.
Войдя, он снял шапку и несколько минут стоял у дверей. Да, это был цех, где Назиров так долго работал, с его привычным гулом и запахами, с его до боли знакомыми станками, с падающими из окон солнечными полосками, голубями и фонтанчиками, и в то же время это было нечто новое: он видел въяве рожденный его воображением проект. Стремительно переходя от станка к станку, наблюдая за потоком деталей, он пожимал руки радостно встречавшим его рабочим и почти каждого спрашивал:
— Ну как, идет?
— Теперь пошло. Вначале сильно помучались.
Назиров не успел дойти до середины пролета, как весть о его приезде облетела весь цех.
— Здравствуй, Азат Хайбуллович, — издали заулыбалась ему Надежда Николаевна. — Что, не стерпело сердце?
— Спасибо вам, большое спасибо, — сказал Назиров. — Здесь общей, коллективной работы больше, чем моей. Слышал, были у вас серьезные неприятности.
— И сейчас не совсем с ними покончено. Хорошо сделал, что приехал. Надолго? — спросил Акчурин.
— Дня два-три пробуду.
— Очень рад. Нужно кое-что посмотреть вместе, посоветоваться.
— Ну, парень, задал ты нам хорошего жару, — сказал Сулейман, схватив руку Назирова и обеими руками тряся ее. — Вон посмотри на Авана с Надеждой Николаевной. Еле на ногах стоят. А сам-то ты, — тьфу-тьфу, как бы не сглазить, — покруглел. Ну, как в деревне?
— Работы там больше здешнего, Сулейман-абзы.
— Га, смотрите на него, сразу свое ставит выше… — Сулейман-абзы настороженно глянул на него из-под густых бровей. — Надолго?
— Дня на два — на три.
— Ну, это ничего. Не то что некоторые молодчики — приедут и тут же задний ход дают.
— Если бы я дал задний ход, — полушутя бросил Назиров, — ты бы, Сулейман-абзы, первым отхлестал меня по щекам.
— Нет уж, браток, самому Сулейману больно наступили на пятки. Теперь и рта не откроешь…
— Ильмурза сбежал с целины. Тяжело оскорблен старик, — объяснил Аван Акчурин, когда отошли от станка Уразметова.
Обойдя цех, Акчурин, Надежда Николаевна и Назиров втроем поднялись в конторку.
После телефонного разговора с Гульчирой Назиров встревожился, всякие мысли пошли. «Может, никуда не годен?..» Теперь от его беспокойства и следа не осталось. Нет, он не обманывался, он видел трудности, те неожиданные препятствия, которые рождает только практика, но они его не пугали.
Скинув кожаное пальто, Назиров надел халат и бодро сказал Акчурину и Надежде Николаевне:
— Ладно, я целиком к вашим услугам.
5Одиннадцатичасовой гудок стих уже давно. Они идут вдвоем, Гульчира и Азат, взявшись за руки, по пустынным слободским улицам, неповторимо красивым при свете полной луны и от только что выпавшего снега. Все вокруг объято удивительной тишиной, в которой слышится лишь мерный, как биение сердца, стук копра, забивающего шпунты на строительстве порта.
На повороте посередине улицы показалась группа молодежи. Гульчира тут же узнала гармониста. Это был Басыр. Он играл на гармонике с колокольчиками. Кто-то свистнул, кто-то пустился в пляс, кто-то запел под гармошку:
Герань душистую ты видишь на окне?
Понюхай, друг мой, — запах так хорош!
Средь листьев есть один цветок — он дорог мне,
Не рву его: он на тебя похож…
И все, подзадоривая танцора, подхватили дружно:
Тальник, тальник,
Пригнувшийся тальник!
Любимого увидеть сердце хочет
Хоть раз, хоть миг!..
Гульчира прижалась к Назирову, и, пока песня не стихла вдали, они молчали. «И у меня вот сердце разрывается», — подумала она.
— Ты не озябла? — спросил Назиров.
— Нет… Расскажи, как в деревне… Все-все, с самого начала. Мне все интересно.
— Хорошо, — рассмеялся Назиров. — В вагоне мне, правда, приходило в голову, а вдруг встретит меня на станции какой-нибудь абзы с лошадкой, но все же я надеялся на машину. Схожу. Мороз трескучий! Деревья, лошади — в инее. Дым жиденькой струйкой поднимается вверх. Солнце багровое, в туманном, радужном кольце. Снежок похрустывает. Я, конечно, в шляпе, полуботинки на мне, шелковые носочки, кожаные перчатки. А от станции до МТС ни более ни менее — сто двадцать километров! Оглядываюсь по сторонам: никакой машины. Пока я стоял как в воду опущенный, подходит ко мне женщина, кругленькая, как свекла, с маленькими живыми глазами, закутана в черную шаль, в короткой черной стеганке и брюках. «Не вы ли инженер товарищ Назиров будете?» Спрашиваю ее, где же машина. «А вот, — показала она кнутовищем на сани. — По нашим дорогам не токмо что на машине, на санях проедешь, — скажи спасибо». Говорит, а сама поглядывает то на мои ботинки, то на шляпу. «Видно, понравился тетке», — думаю про себя.
«Вы что ж, товарищ инженер, хотите так вот налегке, точно не живой человек, а кукла, отправиться в путь? Закоченеешь ведь», — говорит. Я плету, что ботинки у меня на меху, а к шляпе в придачу есть волосы и воротник поднять можно. Засмеялась, чертовка. Видно, успела разглядеть, что не только меха в ботинках, даже теплых носков не было. Потом велела подождать немного. Ноги начали стынуть. Танцую. Воротник поднял. Руки мерзнут. Если так, думаю, и вправду закоченею. Вот потеха-то будет.
Пока я так приплясывал, эта самая тетка принесла два тулупа. Бросила тулупы на спинку саней и говорит: «Пойдемте».
Вошли в один дом. Там она вручила мне старые валенки, в пору семидесятилетнему деду форсить.
«Обувайтесь, говорит, фасон больно хорош», — а сама, чтоб не рассмеяться в глаза, отвертывается к печке.
Что поделаешь, надел я дедушкины валенки. Зато всю дорогу и деда и тетку благодарил, — ноги были что в теплом масле.
Гульчира упрекнула себя, что, провожая Азата, не подумала об этом.
— Выехали в путь, — продолжал он. — Тетка по-мальчишески вскочила на облучок. Свистнула. Конь добрый, несет, только головой покачивает… Ты ведь знаешь, деревню я видел только в кино. Едем, едем… Три часа. Пять часов. Десять часов. Кругом снег, белый… глаза режет. Бескрайняя снежная равнина… Изредка покажется утонувшая в сугробах деревушка. Леса, оказывается, нет в тех краях. Деревни голые. Ни садочка, ни дерева порядочного не увидишь. Только на кладбищах березки стоят. И опять на десятки километров тянется слепящая белая степь. Я и не предполагал, что у нас в Татарии такие просторы.
Едем. Вдруг заяц пересекает дорогу. Эх!.. Скачет, только пятки сверкают. Лису видели. Сидит у дороги эдакая кокетливая сватья, уставила на нас свою ехидную мордочку. Жаль, что не было ружья, а то бы тебе прекрасный воротник привез.
— Ладно, в другой раз подстрелишь, — вставила Гульчира.
— Я не привычен ездить на санях, — продолжал Назиров. — Вначале показалось хорошо, но потом голова закружилась. И замерз. А тетку ничто не берег, даже ворот тулупа не подняла. То посвистывает, то песню грустную затянет. А ты едешь, завернувшись в тулуп, по безбрежной степи. Впереди плавно покачивается дуга над головой лошади. Стучат копыта, шелестит шлея на широком крупе. «Далеко еще?» — спрашиваю. «Да хватит», — протянула тетка нараспев.
«Я правильно почувствовала эту даль ночью, когда говорила по телефону с Азатом», — подумала Гульчира, но не стала перебивать Назирова. А он все рассказывал:
— Долго еще ехали, тетка и говорит мне: «Товарищ инженер, слазь с саней, пошагай-ка маленечко пешком. Ноги отогреются. В гору поднимаемся».
Смотрю, — никакой возвышенности. Ровная белая степь. Я, похоже, вздремнул перед этим. В тулупе так хорошо. Совсем не хочется мне сходить с саней, но, чтобы не выдать себя, слез. Встал на землю и пошатнулся. Все вокруг, как патрон карусельного станка, медленно кружится. Поясница онемела, ноги как деревяшки — двинуться не могу. «Держитесь за сани», — говорит тетка, а сама прикрывает уголком шали рот, чтобы скрыть улыбку. Взялся. Иду, а сам не вижу ничегошеньки.
А тетка моя смеется. «Ступайте крепче, говорит, а то обратно повернут из мытээс. Еще подумают, что привезла пьяницу какого. Беда, говорит, с этими городскими людьми, одного встречаешь, другого провожаешь. И тебя, видно, месяца не пройдет, провожать придется». И не стесняется ведь, чертовка, прямо так и ляпает. «Хоть на вид ты и крепкий, а коленки быстро подгибаются. Да и жене, говорит, не понравится здесь». Я сказал, что еще холостяк, не поверила.