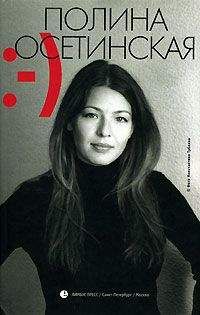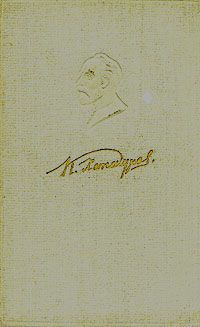Инал Кануков - Антология осетинской прозы
Петлю на петлю нанизывала Серафима, вслед за одной мыслью рождалась другая. Пока еще они были сумбурны, бессвязны…
«Канамат, прочитала я твое письмо и ожила. Тем, кто меня окружает, я виду не показываю, но тебе должна признаться, — я оказалась такой слабой, беспомощной, что и сама не ожидала. Недавно немцы сбросили на наше село четыре бомбы, и я четыре раза умерла. Ничем не измерить то, что я испытала. Иногда, мне кажется, что все от солдата до генерала испытывают такой же страх. И тогда мир наполняется причитанием Госка. Ей, наверное, постоянно снятся страшные сны, которых она никому не рассказывает. И когда начинает причитать, — мраком ее слов наполняется наш дом. Хочется заткнуть уши и бежать, куда глаза глядят… Если бы ты знал, какой надеждой озарило меня твое письмо. Кажется, будто солнце взошло, весеннее солнце…»
Через открытое окно с улицы послышались чьи-то шаги, Серафима выглянула и увидела сестру Кайти Дунекка. Она была без платка, в старом, линялом платье, которое надевала, когда возилась во дворе. Сама открыла калитку и, шлепая просторными галошами, пошла к дому…
Дунекка была не из тех, кто без причины нагрянет в гости, и Серафима испугалась, увидев ее.
— Письмо получили? — вскрикнула Серафима и бросилась, к гостье со спицами и пряжей в руках.
— А ты угадай от кого?
— Я и так знаю.
— И ты не обрадовалась? — Дунекка протянула было письмо, но опять прижала его к груди.
— Разве не слышишь, как сердце колотится? Пошли в комнату.
— Назови, тогда его по имени.
— Его имя — солдат.
Рука Дунекка разом опустилась, едва удерживая лист бумаги, обида блеснула в ее глазах.
— Наверное, ты подумала: куда она мчится, как бешеная?
— Не говори так, — ласково сказала Серафима. — Если бы можно было выложить сердце на ладонь… Когда вы его получили?
— На, сама читай, — сестра Кайти протянула письмо. — Это он тебе писал. И мы от него получили такой же клочок…
Дунекка говорила еще что-то, кажется, уверяла девушку, что они с Уалинка даже глазом не взглянули на это письмо… Спицы кололи руки Серафимы, становились поперек, и она никак не могла развернуть лист бумаги.
Ей казалось, что она ждала этого письма очень долго. Девушка разглядывала, как чудо, буквы, написанные рукой Кайти, крупные, звенящие буквы…
«Доброе утро, соседка Серафима, живущая по правую сторону от нашего дома! Новостей у меня целая гора. Но я не хочу поручать их этому клочку бумаги. Время суровое, и всякое может случиться. Однако сердце мое чует, скоро встретимся мы с тобой. Да, обязательно встретимся. Ты стремись к этому, Серафима, и тогда мы обязательно встретимся. Кайти».
— Где он сейчас?
— Ничего такого не сообщает.
— Наверное, его часть где-то совсем близко.
— Наверное. Раз так пишет, значит на что-то надеется.
— А вдруг он ранен?!
— Как твой язык повернулся произнести такое?!
— Письмо какое-то странное… Нелегко ему, видно, приходится…
— Не до песен сейчас…
Некоторое время они стояли молча, каждая со своими затаенными мыслями.
— Носки хочешь кому-то послать? — спросила Дунекка.
— Так… Вдруг надумала, — сказала Серафима и, запнувшись, схватила соседку за руку. — Присядь, посидим.
— Нет, некогда мне…
4Над селом прошла группа самолетов. Наступали сумерки, и Таурзат не могла разглядеть красные звезды на их крыльях. Но по звуку определила — это свои. Они летели оттуда, где над горами Осетии небо еще спокойно.
Где-то над лесом оборвался гул самолетов.
Таурзат услышала топот скачущей лошади. Подковы, ударяясь о камни, тревожно звенели. Женщина сошла с дороги, прислонилась спиной к плетню. Хотелось, чтобы всадник не заметил ее, промчался мимо…
Всадник, поравнявшись с ней, осадил коня, остановился и спрыгнул на землю. Кнут взял в левую руку, которой держал лошадь за повод. Пока не подошел вплотную, она его не узнала.
— Габуш, это ты? — спросила неуверенно.
— Он самый, — сказал всадник и подал руку.
— Откуда ты?
— Где только мы не бываем с моим скакуном, — улыбнулся он.
— Знаю, ты не без дела, — сказала Таурзат. — Пойдем в правление.
— Нет нужды возвращаться туда. Пройдемся тихим шагом. Разговор у нас будет недолгий… Говори тихо, чтобы никто не слышал, — сказал Габуш. — Ты, наверное, помнишь своих бригадиров, тех, что работали у вас перед войной?
— Помню, всех помню.
— Был у вас такой… Знал себе цену. Голос звонкий… Среднего роста, плечистый, плотнее меня…
— Может, ты Габола имеешь в виду, но он не был плечистым…
— Недавно мы убрали кукурузу и пустили на поле яловых коров… На границе земель вашего и нашего колхозов… Пастух стал собирать оставшиеся початки, зазевался, упустил коров, и те забрели на ваше поле. Откуда-то вдруг прискакал всадник, налетел на пастуха, стал кричать: «Кто дал тебе право чужие поля травить?!» Пастух пошел за всадником, стал извиняться. А тот ему ружье показал. Растерялся пастух — и быка угоняют, и коров нельзя бросить… Вечером прибежал ко мне со слезами на глазах, кое-как обрисовал обидчика, и оказалось, что он знал лошадь, на которой сидел тот человек… Вскоре мы нашли эту лошадь, но хозяин ее ни в чем ни признался. — Ничего, мол, не знаю, в тот день лошадь была у меня во дворе, соседи видели ее и могут подтвердить…
— Не о Кайти ли ты говоришь? — спросила, будто припоминая вслух, Таурзат.
Они долго шли молча, потом Габуш сказал:
— Значит, это ваш?
— Да. Он был бригадиром. Но вы его знать не можете, вы тогда работали далеко отсюда…
— Не так уж и далеко, нас разделяли всего три села… Так вот, там, где я работал до войны, живут родственники его матери. — Габуш зорко поглядывал по сторонам. — Что он за человек? Ты его хорошо знала?..
Считали его нахальным, заносчивым, но ей он казался человеком, живым, деятельным. Да и бригадиром быть не так-то просто… Всем не угодишь — кто-то и обидеться может и злобу затаить… Как-то раз глубокой осенью одна из колхозниц несколько дней не выходила на уборку кукурузы. Оказалось, что у нее не было теплой одежды. Кайти, узнав об этом, тут же снял с себя телогрейку и отдал… Таурзат даже позавидовала ему: она не сумела бы так сразу найтись…
Таурзат стала приглядываться к Кайти, хотела разобраться, понять его. Но грянула война, и в первые же дни Кайти ушел на фронт…
— Не знаю, что и сказать тебе, — пожала плечами Таурзат. — Он был еще молод, а молодым свойственно ошибаться…
— Сбежал он, — сказал Габуш. — Дезертировал…
Таурзат знала, что Габуш был командиром истребительного батальона, но у нее и в мыслях не было, что он придет в их село с подобной вестью. Колхозное имущество пока все было здесь, и она думала, что он принес ей какое-нибудь секретное указание об эвакуации. Таурзат вспомнила, каким гордым, независимым был Кайти. Нет, струсить такой не мог…
— Приглядись повнимательней к их дому. Трудно сказать, чем может выдать себя человек…
— Хорошо, — Таурзат поправила платок, зябко передернула плечами. — Я тебя поняла…
5За селом, в стороне от кладбища, на котором похоронены те, кто умер своей смертью, возле своего очага, выстроились в ряд четырехгранные, близко стоящие друг к другу деревянные надгробья. Они видны издали, их уже много. Имена тех, кто погиб от первых пуль войны, выведены на них в черный день черными буквами.
Сколько было похоронок, столько белых деревянных памятников стоит сегодня рядом со старым кладбищем.
Сегодня на один памятник станет больше.
Таурзат получила извещение о смерти младшего сына Дзиппа.
Легче умереть, чем перешагнуть порог с этой вестью. Кто осмелится войти в дом Дзиппа?..
Таурзат старалась не думать об этом, но младший сын Дзиппа словно пришел к ней, стал перед глазами и стоял, не уходил… Когда Таурзат поравнялась с низеньким, крытым соломой сараем Госка, а до дома Дзиппа оставалось еще три десятка шагов, сердце ей подсказало: «Нет, не должны они пока знать об этом. Пусть живет для них младший сын, пусть вспоминают они его шалости, за которые строго журили его, пусть, любя, жалеют об этом…»
Кайти будет есть горячий чурек, Уалинка, глядя на сына, и воздухом одним удовольствуется, а из дома, что рядом с ними, день и ночь будут слышаться причитания…
Таурзат испугалась: а вдруг выйдет сейчас из этих ворот отец или мать погибшего? Что она скажет им? Остановившись в растерянности, повернула к Госка…
Идти по чисто подметенному двору — все равно, что вернуться к прошлым спокойным дням.
— Эй, есть кто-нибудь живой? — позвала Таурзат.
Хлопнула дверь, из дома выбежала, улыбаясь, Госка. Улыбаться-то она улыбалась, а в глазах сквозили беспокойство и испуг.
— На минуту к вам зашла, Госка, — как бы оправдываясь, сказала Таурзат. — К Серафиме, дело есть.