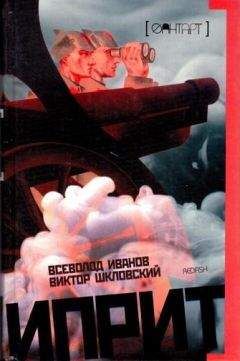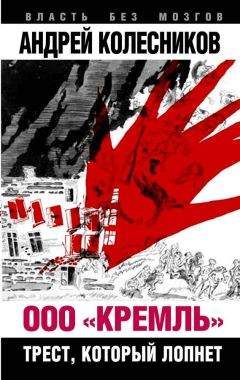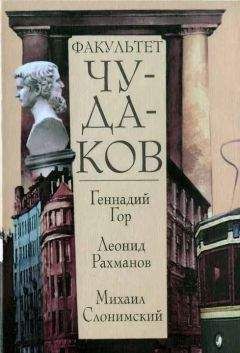Всеволод Иванов - Кремль. У
И противно идти, а нужно. Шестьсот двадцать экземпляров рабсилы за ним — и костюмчик. Шестьсот двадцать — это создание нового Жаворонкова, костюмчик же — его прошлое, о прошлом всегда трудно говорить, сколь бы ни были вы всеведущи. Берете, Егор Егорыч, обязанность насчет костюмчика?
— А какую мне ему цену давать?
— По вашему усмотрению, Егор Егорыч. Давайте половину против запроса. К цене поддевочки, которую я ему замыл, прибавлю… Дешево замыл, черт бы его драл!
Я хотел высказать ему свои подозрения касательно единства поддевки и заграничного костюма, но, подумав, что соображения мои, пожалуй, он рассмотрит вроде трусости, кроме того, какой же это торг без всеобъемлющего ощупывания продаваемого, — одним словом, я промолчал. Жаворонков встретил нас без смущения, а даже весело. Он сидел в углу, украшенном антирелигиозными плакатами, важный, как если б почтовый ящик внезапно превратился в запрестольный образ. Резвая его баба с двумя синяками и подбитой губой весь разговор наш сидела молча, посматривая на супруга с диким почтением. Опрятные старушонки вязали чулки.
— Итак, вначале помиримся, — сказал Черпанов, усаживаясь, было, верхом на табурет, но, тотчас же вскочив, он передал табурет какой-то старушке, взяв из-под нее венский стул. Он обожал менять сиденья. — Зачем нам ссориться в замечательном государстве, которое одно способно преследовать одни цели? — Черпанов ловко, я не успел и мигнуть, вложил мою руку в лапищу Жаворонкова. — Теперь о деле, а именно касательно шестисот двадцати. Есть у вас знакомых, родственников и друзей шестьсот двадцать?
— Шестьсот — я понимаю, — глухо ответил Жаворонков, — а двадцать-то откуда?
— Государственная разверстка.
— И надолго их, Леон Ионыч?
— Видите ли, Кузьма Георгич, время в данном случае теряет свое назначение. Время мы измеряем тогда, когда мы несчастны или когда приближаемся к несчастью. И зачем нам огорчать их, прерывая счетом времени их счастье. Они перерождаются там, Кузьма Георгич.
— Чего ж, выхолостят их или как? Шурка у меня племянник есть, аккуратно сработанный парнишка, его вот жалко, коли выхолостят, а остальные… — он взглянул на старушек, — бог с ними! Насчет Шуркиного выхолащиванья снисхожденье, поди, можно хлопотать. Очень он похож на меня, и по молодости-то… — Резвая баба его сверкнула глазами. Он почесал бороду — и замолк.
Черпанов переменил стул. Три старушки сразу предложили ему пять стульев.
— Но почему, Кузьма Георгич, такие крайние мысли?
— От причины.
— В моих словах нет указанной вами причины.
— А доктор зачем приходил? На обследование по случаю охолащивания! Я припадочный! — вскричал вдруг Жаворонков, вскакивая и топоча ногами. — Я всех избить могу и ни перед кем не отвечу! Ленька, в морду хочешь?
Он поднял шишковатый свой кулак. Черпанов плюнул на кулак и, откинувшись вместе со стулом, захохотал:
— Ха-ха! Ха-ха! Жаворонков. Этак, милый мой, не восстанавливают храм Христа Спасителя.
Жаворонков разжал кулак и — уже мягкой ладонью двинул по столу, удаляясь от Черпанова.
— Какой… храм восстанавливать?
— Со всех сторон осмотритесь, Кузьма Георгич, и опричь, как говорится, кроме храма Христа Спасителя, что достойно восстановления, какой пьедестал лучше, чем Уральские горы. Только он один. Мы не желаем препятствовать твоим мыслям, лишь бы перерождался. Естественно, что мы вначале его восстановим, не так, чтобы уж сразу храм, а так вроде театра с высоконравственными и целомудренными произведениями.
Жаворонков глубоко вздохнул:
— Скажу по секрету, поездка хотя и по разверстке, но вполне добровольная. Одному бригадиру, а таковым являешься ты, Жаворонков, объясняется цель.
— Прах их… — нерешительно проговорил Жаворонков, но явно внутренне пылая, — прах их дери, добровольно-то они не все согласятся.
— Тогда берите на себя, Кузьма Георгич, добровольность, а остальным предоставьте разверстку. Шестьсот двадцать человек, конечно, трудно удержать в добром повиновении, если им все добровольно. Ну, дайте им кое-какую добровольность, мочиться там сколько они хотят в день, судачить.
Жаворонков опять сжал кулак, взглянул на резвую свою бабу и старух, опустивших головы:
— Я им посудачу!
— Я рад, Кузьма Георгич, что вы так сразу поняли мои идеи, в вашем миропонимании есть какая-то унаследованность. Постепенно говорю я всем законтрактованным, давайте молодеть. Это опыт, Кузьма Георгич, имейте в виду, но опыт давних моих стремлений. Мы восстанавливаем на Урале все, что может переродить человека. Повторяю, мы не задерживаем течение его мыслей и желаний.
Жаворонков положил ручищи свои на плакаты.
— Значит, рвать? — обернувшись к нам мутным своим лицом, спросил он. — Мне все равно одна погибель, сгубит меня иначе Степанида Константиновна, а уж — если будешь восстанавливать, так я такие восстановлю — в пять раз шире и выше. Удостоверенья есть? Есть. Правильно! Ай да комсомол, на какие опыты двинулся. Ай да Урал. Ай да Леон Ионыч! Не зря я публично мороженым торговал, а втайне строительным делом орудовал. Мороженое — это, дескать, намек, что если Жаворонков перед вами, то существует сладость, а строительным материалом!.. Какие я тебе древеса выкину, Леон Ионыч, стареть им столетиями не стареть.
Он протянул черный свой кулак, похожий мощью своей на маузер, к бабе. Баба уже разглядела удостоверения Черпанова — и розово цвел перед нею всеми любимый Черпанов!
— Видишь, доктор испытывал: не соблазнит ли меня какая чужая девка, не отведет ли от праведного пути? Поняла? Конфет! Лимонаду гостям!
Баба загремела чашками.
— Как же насчет шестисот двадцати, Кузьма Георгич?
— Соберем и семьсот.
Черпанов пересел на скамейку:
— Не единовластвуй, Кузьма Георгич, действуй мало-помалу. Сказано, шестьсот двадцать — и точка.
— Будет шестьсот двадцать. Парни религиозные, крепкие, петь и работать умеют. Кирпичики-то с духовными песнями класть будут.
— Ну, это уже лишнее, — сказал Черпанов сухо. — Ты и о перерождении обязан думать, Кузьма Георгич.
— А если я уже переродился?
Он рванул плакаты со стены, перебросил куски их бабе. Она сунула их в печку. Он кинул ей спички. Она зажгла. Оранжевое пламя соединилось с оранжевой краской. Исчезли митры, лихо надетые набекрень; седые бороды святых отцов, кровавые носы, густотелые ангелы, кружки монет, сыплющиеся из рук монахов. Мне стало слегка грустно. Черпанов сухо улыбался — строго и прямо сидя на скамье. Ему-то знаком предел своих полномочий, а я?
Нет-с? Не так-то уж легко быть секретарем большого человека!
Хотя Черпанов и сбрил свои сконсовые усы, обнажив всю розовость своего двадцатидвухлетнего лица, все же удивительная сухость его глаз, его скрипучий, почти старческий голос, его повелительная манера говорить — и даже склонность пересаживаться с места на место — заставляли многих верить ему, если не в общем, так частностям. Трудно, конечно, поверить было мне, что Урал почему-то решил восстановить у себя храм Христа Спасителя, Черпанов явно чего-то не договаривал, но вот эта-то недоговоренность и пленяла людей. Жена Жаворонкова буквально смотрела ему в рот, Жаворонков скромно и с достоинством трепетал, старушонки млели. Черпанов обратился ко мне:
— Егор Егорыч, вы, никак, чем-то хотели обмолвиться?
Врать мне трудно, но, странное дело, всегда, когда я вру, моя ложь кажется многим чем-то обидным. Начал я издалека, решив воздействовать на жаворонковское раскаяние и перерождение:
— Когда я летел по лестнице от вас, Кузьма Георгич, то порядочно испортил свой костюм. Естественно, я б желал приобрести свежий. Я слышал от старичка, у вас присутствовавшего, что вы имеете таковой. За деньгами я не постою, если заграничный…
Жаворонков, как я и ожидал, обиделся. Он подобрал рыхлый свой рот, внутренно как-то оглянулся, да и все в комнате внутренно оглянулись. Он осторожно сказал:
— Если имеется костюм, гражданин, то сгодится для себя. На Урале вот какая высокая должность предлагается.
— Высокая не по чину, а по возможностям, — сухо вставил свое слово Черпанов. — При такой должности лучше соблюдать скромность: толстовки достаточно, Кузьма Георгич.
Я продолжал:
— Смешно думать, Кузьма Георгич, что ваше перерождение ограничится внутренностью, а не внешностью. Вы получите подобающий костюм, а зачем вам заграничный?
— Чрезмерное стремление, — сказал Черпанов небрежно.
Жаворонков поднял кулак.
— А ну, встаньте!
Черпанов встал.
— Я Егор Егорычу велел встать.
— Да мы приблизительно одного роста.
— Где ж одного, когда вы, Леон Ионыч, головой выше.
— Это кажется от моих умственных способностей. Кроме того, если он заграничный, то сядет. Заграничный костюм подходящ для каждого.