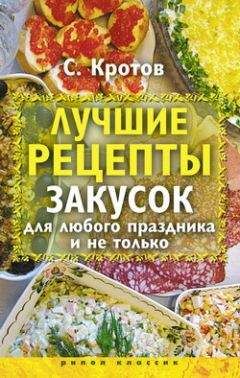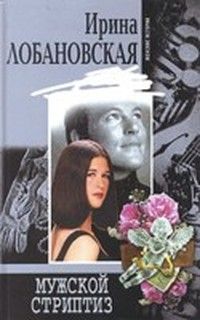Юозас Пожера - Рыбы не знают своих детей
— Успокойся. Слезами, милая, тут уже не поможешь. Жить-то надо. Не ты первая, не ты последняя. Сколько теперь на земле вдов с сиротами на руках — одному господу богу известно. А жить все равно всем надо… Пойду возьму чистую рубашку и помоюсь, раз уж банька натоплена.
Не поднимая головы, она слышала, как закрылась дверь предбанника, а потом и наружная, как удалялись по тропинке шаги Марии и как она выгоняла из огорода кур, покрикивая на них, на своих злейших врагов. «А самый злейший враг сидит здесь», — вытирая слезы, подумала о себе и схватила мыло. Терлась мочалкой с таким ожесточением, будто стремилась содрать с себя всю кожу. Каждый раз так. Все казалось, что после бани станет легче, словно сбросит грязную одежду. Терла до боли и, может быть, в сотый раз за эти дни повторяла про себя когда-то запавшее в память четверостишие:
Чего ты маешься, скажи,
И слезы льешь? Не мил я?
С тобой я слишком далеко
Ушла дорогой пыльной…
Ополоснувшись теплой водой, вышла в предбанник, где уже раздевалась Мария. Боясь встретиться с ней взглядом, натягивала на себя прилипающую одежду застегивалась, отвернувшись, будто очутилась в мужской бане.
— И в беде, милая, надо искать счастье. Разве было бы лучше, если б осталась одна как перст? Не приведи господи… А теперь будет ребеночек. И сердцу утешение, и есть ради кого жить. Не было бы у меня моего Винцукаса, то, кажется, и жить бы не стоило. Вы, горожанки, может, по-своему обо всем судите. Другие, слышала, и аборты, и чего только не делают, лишь бы избавиться от плода. А по-моему, чрево — святыня. Сколько бог дает, столько и рожай. Мне больше не дал… Спасибо и за этого одного. И ты, Агне, не изгоняй своего маленького, не соверши смертного греха. А насчет жизни — не пропадешь. Как люди говорят: дал бог рот, даст и хлебушко.
«Если бы ты знала всю правду, что бы тогда сказала мне», — думала она, сдерживая рвущееся рыдание и поспешно собирая вещи. Слезы туманили глаза, и она торопилась, боясь, что вот-вот не выдержит, разразится плачем и выплеснет всю свою боль, позабыв и о страхе, и о стыде.
* * *Ты не только не сдерживался, но и распалял себя, придумывая оправдания своей страсти. Ведь постоянно вбивал себе в голову: если ты скрываешь свои истинные стремления, если подавляешь не дающую покоя страсть, если ничего не делаешь для удовлетворения своих желаний, ты не Винцас Шална, а какая-то двуличная тварь, проживающая жизнь другого человека. О тебе нельзя говорить как о Винцасе Шалне, потому что твои дела и поступки не имеют ничего общего с подлинным тобой… Выходит, что ты как бы и не родился, а проживаешь навязанную тебе жизнь. Ведь так было? Тогда почему теперь пятишься?
— Что сделано — сделано, — сказал он и сам испугался своего голоса, разорвавшего лесную тишину.
Не знал еще, куда пойдет, но внутренняя тревога подняла его на ноги. Чувствовал необходимость куда-то идти, сделать что-то важное, крайне необходимое. Неведомая ему сила гнала его из леса, ближе к живым людям, где он был обязан свершить что-то важное и неотложное, хотя точно не знал, ни куда торопиться, ни что предпринять. Встал и оглянулся. Один конец вожжей висел на верхушке березки, а второй лежал на мху, напоминая огромную свернувшуюся змею. Стыдливо, будто за ним следил посторонний глаз, он поднял конец вожжей, складывал их кругами, злясь на себя: и как могла прийти в голову такая глупость?! Сунул их под мышку и пошел спорым шагом, словно была дорога каждая минута. Но, еще не выбравшись из леса, за редкими деревьями увидел Агне и остановился. Длинные и мокрые ее волосы тяжелой волной падали на плечи, от прижатого к боку таза изредка отражались лучи солнца, а сама она шла, будто на похоронах: голова склонена, глаза опущены к земле, казалось, не видит и не слышит, как чудесен этот день. И, увидев ее такой печальной, бессильной и жалкой, вдруг почувствовал неудержимое желание подбежать, обнять ее, снова завладеть ею, как и тогда на заросшей вереском поляне. Страсть была так сильна, соблазн настолько велик, что он даже задыхался, но с места почему-то не стронулся. «Вот что не надо откладывать ни на день, ни на час, — лихорадочно думал он. — Немедленно, сейчас же надо пойти к ней и добиться своего, а потом все пойдет в лучшую сторону. После этого и впрямь все будет хорошо. Важно теперь сделать решающий шаг».
Стоял, спрятавшись за сосну, прижавшись щекой к ее шершавой коре, и следил глазами за Агне. Видел, как она подошла к избе, как скрылась за дверью, а через мгновение опять появилась, развесила принесенное с собой белье, потом снова исчезла за порогом, оставив дверь распахнутой. «Другой такой возможности у тебя не будет», — сказал он себе и шагнул вперед. Шел, все прячась за деревьями, а когда вышел из леса, почти бегом пустился, не отрывая глаз от распахнутой двери. Этот огород, эти грядки с луком, морковью, бурачками и огурцами всегда вызывали у него какой-то смех и грусть — такими жалкими казались, а теперь им нет ни конца ни края. И весь дворик Стасиса вырос, расширился, а он шагает, словно дряхлый старик, — сколько ни идет, все на месте… И вдруг увидел, как на пороге появилась Агне, точнее, не вся она, а лишь озаренное солнцем лицо и не по-человечески длинная рука, протянутая вперед, словно желающая схватить его за горло… И в тот же миг дверь захлопнулась с таким грохотом, что даже скворцы вспорхнули с крыши, будто сдутые порывом ветра.
* * *Дрожащей рукой она нащупала выкованный Кунигенасом крепкий крюк и набросила на дверь. С той стороны скрипнул пол веранды, а через мгновение тихо взвизгнула нажатая дверная ручка. С минуту, а то и больше длилось это, а потом ручка медленно выпрямилась и раздался стук в дверь. Тихий, осторожный стук, будто там, за дверью, ждал заговорщик, боящийся огласки. Она стояла, прислонившись к дверному косяку, и слышала, как с той стороны он дышит, как переминается с ноги на ногу, как снова скрипит пол веранды. И снова костяшками пальцев — бар-бар-бар, будто они так условились. Даже нехорошо становится. «А может, виной тут та давняя причина?» — думает она.
— Агне… Агне! — раздается приглушенный голос.
Она не отвечает. Кажется, даже не дышит. А за дверью снова:
— Агне… Открой.
Молчит, словно мышь под метлой.
— Я же знаю, что ты дома… Видел, как пришла, как закрылась…
— Чего ты хочешь? — и самой непонятно, почему заговорила полушепотом, как и он.
— Почему ты со мной так?
Почему, почему, почему… Многое хотела бы сказать, но губы словно на запоре. И слава богу, что на запоре.
— Почему не открываешь?
— Ты здесь ничего не забыл, — говорит дрожащим, чужим голосом.
— Ты меня не бойся. Разве нам уже и поговорить не о чем? Зря ты так на меня… Не знаю, что отдал бы, лишь бы все вновь стало так, как когда-то…
В новогоднюю ночь они праздновали. Не хотели этого ни Мария, ни Винцас, ни Стасис, который с равнодушной усмешкой отнесся к ее затее. Но все подчинились воле Агне. Согласились даже развести костер под развесистой елью на берегу Версме. Мария побаивалась: долго ли лесным пронюхать, а такое веселье они никому не прощают… Нагрузили санки сухими дровами, забрались на них, он обнял ее, и с детским визгом пустились с крутого обрыва, пока не очутились в сугробе вместе с дровами… Винцас все еще держал ее в объятиях, громко хохотал, а потом поцеловал в заснеженную щеку и сказал: «Спасибо тебе, что так придумала… А то живем, словно кроты…» А потом, в полночь, обступив пылающий костер, они пили настоянную на каких-то травках самогонку, сопровождая свои пожелания традиционным поцелуем, и она почувствовала, что Винцас слишком крепко впился в ее губы и что это не возмущает ее, а скорее наоборот — радует…
— Агне, я на все готов, лишь бы ты поверила мне…
А потом все, взявшись за руки, поднимались на крутой обрыв, скользя и падая, с громкими криками, и Мария несколько раз сказала ей: «Ой, накличите из леса беду, ой, накличите на свою голову…» Громче всех смеялся Винцас. Уже у двери избы, метлой смахивая с валенок снег, он сказал: «Господи, если б хоть раз в неделю был Новый год!»
— Агне, слышишь меня?
«Может, тогда, в новогоднюю ночь, все и началось», — подумала она.
— Агне!
Она и теперь не откликнулась, хотя в его голосе почувствовала и обиду, и надежду, и искреннюю мольбу. Стояла, все так же прижавшись к косяку, слышала тяжелое дыхание, и казалось, что временами сквозь доски двери ей в лицо ударяет теплый запах его рта, как и тогда, на заросшей вереском лесной поляне.
— Бессердечная ты… — доносится безнадежный его голос, а потом стонет пол веранды, раздаются три тяжелых шага, а других она уже не слышит, все остальные звуки впитала земля.
* * *Сквозь редкий сосняк она видит идущего мужа и не понимает, какая муха его укусила: идет чернее тучи и хлещет деревья сложенными вожжами. Откуда идет? Зачем ему эти вожжи? Ведь Гнедая на лугу у Версме пасется. Может, сорвалась? Но тогда с уздечкой шел бы, а не с вожжами. Что тут поймешь?.. Одному богу известно, что в его голове творится. Тогда на похоронах — только пятится, пятится от ямы, а глаза столбом, наполнены ужасом, будто не Стасиса, царствие ему небесное, а его самого живьем закопать собираются. И на поминках ни разу глаз не поднял, крошки в рот не положил, ни капельки не выпил. Вдруг, не приведи господи, тронулся? И правда, зачем же в лес с вожжами? Разве что лося или кабана запрягать задумал, хи-хи-хи… Грех смеяться в такой час, еще беду накличешь. Хотя этих бед и так хватает. Ни вчера, ни сегодня крошки в рот не взял. Все-таки — брат. Так и самому свалиться недолго. Чужой умирает, и то… А тут — родной брат. Но жить все равно надо. И слезы тут не помогут, из мертвых не воскресишь… А если так сокрушаться, и самому в могилу недолго сойти, не приведи господи.