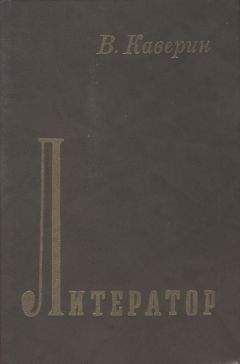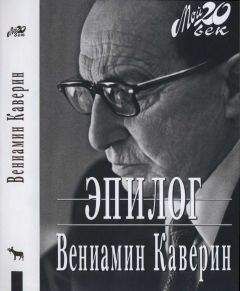Вениамин Каверин - Избранное
— Никак, пошли? — сказал заключенный, которого звали Лука Трофимович, худощавый человек, похожий на цыгана.
Другой отозвался:
— Смотри-ка, быстро справились! Молодцы.
— Как пошли? — Староста встал, прислушиваясь и хмурясь.
«Онега» набирала ход, и теперь плеск шел уже отовсюду — с носа, с боков, и все темное помещение трюма, послушно вздрагивая, было полно этим шумом рассекаемой воды, плещущей и смыкающейся за кормой.
24Рамовый подшипник грелся, сколько ни лили масла, и только для того, чтобы выяснить причину неполадки, нужно было произвести сложную, требовавшую специальных знаний работу. Но ремонт, который в другое время потребовал бы двое суток, был сделан быстро, без помощи специалистов, потому что началась война.
Было семь часов вечера; маленькая луна осторожно встала спиной к солнцу. Это был бледный ободок, полузатерянный в овале неба и как будто испуганный тем, что происходило в этом огромном раскинувшемся овале. Все казалось неподвижным на небе, и все было в непрерывном плывущем движении.
Перемена погоды на Крайнем Севере необыкновенно чувствительна, ощутима, происходит почти на глазах — она-то и была этим непрерывным движением. Две косматые массы облаков, черная над светлой, застыли справа по ходу «Онеги». Казалось, что им было не до голубизны, протянувшейся над заливом, не до белого блеска пролетевшей чайки. Еще несколько минут — и небо стало как гроза, которая сейчас ударит. Но гроза не ударила, и небо снова стало меняться. Маленькие облачка, как шары, выкатывались из-за сопок, спеша в размах этих косматых груд, черной и светлой. Теперь они вошли друг в друга и вдалеке пролились ясной, как транспарант, полосой дождя. Он начался, сразу прошел, и теперь на первый план стало выходить не небо, а дикая серо-зеленая земля, как бы составленная из брошенных в беспорядке скал.
Военное выражение «морской театр» как нельзя лучше подходило к этой освещенной солнцем и луной картине. Это был действительно театр, на котором ежеминутно совершались события — бесшумные и величественные, со своими действующими лицами, у которых была своя, то печальная, то фантастически сверкающая судьба.
«Онега», только что вышедшая из порта Владимир, и немецкий самолет, просматривавший побережье Мурмана и возвращающийся на базу, были самыми маленькими, едва заметными участниками этих событий. Летчик должен был выяснить, перебрасывают ли русские свои войска из района Белого моря, и отлично выполнил свою задачу. Он сделал много удачных снимков и был в хорошем настроении. Здесь, на Крайнем Севере, все оказалось далеко не таким страшным, как рассказывали преподаватели летной школы в Свинемюнде. Заметив «Онегу», летчик сделал над ней круг, обстрелял и двинулся дальше. Он был голоден, устал и беспокоился — из дому давно не было писем. Все же он вернулся и обстрелял «Онегу» еще раз, хотя не мог причинить ей серьезного урона. Не обнаружив других судов, идущих по направлению к Западной Лице, он полетел на свою базу в Петсамо и вскоре обедал и читал письмо, полученное из дома.
Подготовка удара шла энергично. Финляндия закончила мобилизацию. По дороге Тана-фьорд — Киркенес один за другим проходили грузовики. Это были войска и вооружение. На германских оперативных картах Северного фронта стрела через Титовку была направлена к Западной Лице.
25Веревкин был одним из заключенных, почти не заметивших усиления охраны или, во всяком случае, не придавших этому никакого значения. Он был всецело занят своим решением избить старосту и встать на его место. Это было безумное решение, потому что староста был человеком могучим, а Веревкин, хотя в молодости был хорошим гребцом и пловцом, сильно ослабел в тюрьме и весил теперь не семьдесят восемь килограммов, как прежде, а, дай бог, шестьдесят. Кроме того, он по натуре был миролюбив и даже мальчиком терпеть не мог драться. Однажды, вспылив, он ударил товарища по лицу и потом долго не мог отделаться от неприятного чувства, хотя товарищ был виноват. Он даже — это запомнилось — с упреком смотрел тогда на свою руку. Теперь он тоже посмотрел на нее и вздохнул. Как мальчик, готовящийся к драке, он пощупал мускулы. Слабые были мускулы. Он грустно усмехнулся.
Но решение было безумным еще и потому, что ничего не изменило бы в плане Ивана. Этот план — уже не один только староста. Это и Вольготнов, и Губин, и еще добрый десяток отпетых воров и убийц. Это приготовления, которые зашли далеко и за которые придется отвечать, если пароход не будет захвачен.
«В Норвегии — немцы, — все с большим волнением продолжал думать Веревкин. — Наши „невраги“, как сказал Николенька. В Норвегию — это значит к нашим „неврагам“».
Николенька был семилетний племянник Веревкина. Когда был подписан пакт с Германией, он сказал матери:
— Мама, ведь они все-таки не наши друзья. Они просто наши невраги. Да, мама?
«Так что же делать? Может быть, попытаться убедить Аламасова, что немцы выдадут его по требованию Советского правительства? Не поверит. Нет, нужно сделать так, как я решил сначала».
Он давно уже занял очередь в уборную, выстроившуюся у трапа. Теперь очередь подошла. Он встал. Все лежавшие у бункерной перегородки повернули головы, когда он направился к трапу. Но он не стал подниматься. Не особенно торопясь, он подошел к старосте и, опустив голову, остановился подле него.
— Ты что? — тихо спросил староста.
Веревкин не ответил. Один из заключенных окликнул его:
— Николай Иваныч, очередь!
— Все расстраиваешься? — спросил староста.
Веревкин стиснул зубы и ударил его ногой в лицо.
Он не понял, как он оказался внизу, на полу. Должно быть, Иван схватил его за ногу. К ним кинулись. Голова Веревкина была среди шаркающих по настилу сапог. Он душил старосту. Это было очень трудно, руки едва охватывали толстую шею. Он лежал на его огромном теле и душил. Он увидел приоткрывшийся темный рот с усатой губой и почувствовал с восторгом, как что-то скользнуло под пальцами, хрустнуло, плавилось.
Будков раздвинул толпу двумя руками, как раздвигают шторы, и оторвал Веревкина от Ивана. Но еще прежде чем он это сделал, темная фигура появилась в люке между раздвинутыми досками. Это был часовой. Он шатался, заслоняя свет. Заключенные подняли головы, и он упал на них, выронив свою винтовку.
Все расступились. Часовой-якут лежал на боку мертвый, неестественно вывернув руки.
26Кроме часового, немецкий летчик застрелил старпома Алексея Ивановича и ранил одного из кочегаров. Кренометр сорвался со стены в каюте Миронова, стекло вылетело, и большая острая щепа, отколовшаяся от письменного стола, ранила капитана в ногу. В штурманской рубке пули разбили секундомер и аккуратно разрезали висевшую на стене навигационную карту.
Алексея Ивановича положили в салоне на клетчатый диван под портретом Сталина в ореховой раме, увитой красной лентой и украшенной бумажными цветами. Здесь был красный уголок, висела полочка с книгами, и на маленьком овальном столе были разбросаны газеты и журналы. Сперва кто-то сложил руки Алексею Ивановичу крестом на груди, потом устроил вдоль тела. У него была прострелена грудь; пули попали в сердце, и на лице, как это часто бывает с людьми, умирающими внезапно, сохранилось удивленное выражение.
Сбоев с матросами разбивал ящики, снимал заводскую смазку с пулеметов. Он был похож на мальчика — в тельняшке, с упавшими на лоб волосами, которые он не поправлял, потому что у него были грязные руки. Он работал молча. «Хорошо же ты начал войну. Не дал вооружить пароход, хотя яснее ясного видел, что это необходимо. Жалкий фанфарон, бахвал! Почему ты грубил Миронову, который сначала был к тебе расположен и даже обрадовался, что в его тяжелой однообразной жизни появился, хоть на несколько дней, молодой человек из другого, интересовавшего его круга? Они все обрадовались — и Алексей Иванович, смотревший на тебя с упреком и отводивший глаза, потому что он знал от Миронова, что ты не разрешил воспользоваться оружием. Что с ним будет теперь? Отправят в Мурманск? Где будет гражданская панихида, на которой ты выслушаешь все, что скажут о нем».
Сбоев установил пулеметы. Матросы не умели из них стрелять, и он учил их, не переставая думать о том, что, если бы все это было сделано раньше, фашистский самолет, может быть, удалось бы отогнать или сбить. Он обошел пароход, проверил, хотя никто его об этом не просил, посты наблюдения и объяснил второму механику, как нужно наблюдать по секторам: шестьдесят градусов по носу и шестьдесят — сто двадцать с правого и левого борта. Механик молча выслушал его. Все это он прекрасно знал.
Миронов, прихрамывая, вышел из своей каюты, и Сбоев, сильно покраснев, спросил его:
— Очень больно?
— Чепуха.
Прежние отношения между ними казались теперь Миронову совершенно ничтожными, и, если бы не эта история с пулеметами, ему было бы, вероятно, даже трудно вспомнить о них. Жизнь стала короткой, а каждый ее отрезок, каждая минута приближения к Западной Лице, сложной высадки, опасного возвращения необыкновенно длинной. Он чувствовал, что Сбоев раскаивается, сожалеет, потрясен и что он, Миронов, вероятно, ошибся, считая его бездушным человеком. А может быть, и не ошибся? Все это теперь не имело никакого значения.