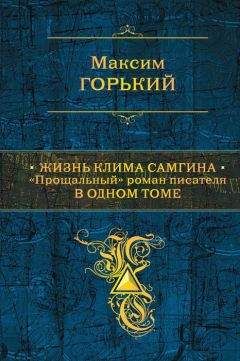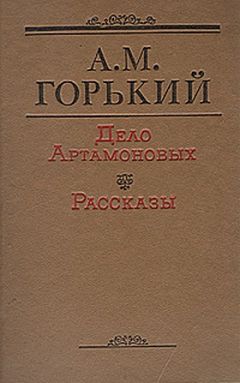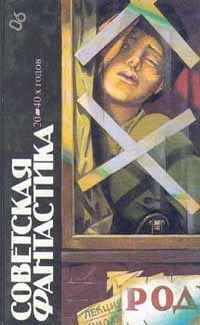Максим Горький - Антология русского советского рассказа (30-е годы)
Ни за чаем, ни в какое другое время не упоминалось о Вареньке Нелидовой.
Однако же состояние духа не могло назваться спокойным. У императора, кроме всего прочего, была хотя и застарелая, но сильная натура, которая требовала своего моциона. Это сказывалось и на его лице, которое один придворный сравнил с эоловой арфой, отражающей все движения природы.
В государственном же отношении он был тверд. Клейнмихеля, который попробовал в доклад о мосте вплести выражение «финансовая смета», он просто выгнал вон.
После обеденного сна устроился небольшой семейный вист по маленькой; император выше двадцати пяти копеек поэнь не играл. Приглашены были три камергера: двое молодых, один старый. Пальцем поманив маленькую фрейлину, у которой при этом покраснела грудь, он сделал ее своей советчицей.
Фрейлина, в прекрасном оживлении, старательно советовала, а император поступал по своему усмотрению. Так, вопреки ее советам, он сразу взялся за туз, что, как известно, в висте при тузе, короле и трех маленьких не годится.
— Ваше величество, — сказала счастливая, но испуганная фрейлина, — но так никто не делает!
Император ответил внезапно сухо:
— Так делаю я.
— Ваше величество, — пролепетала фрейлина, — но обычная система виста…
Император открыл туз.
— Le systeme Nicolas, — сказал он.
Молодой камергер, заметно побледнев, долго выбирал карту, наконец выбрал — положил — и проиграл.
— Le systeme Nicolas, — повторил император.
Начался второй роббер. Играющие переменились местами, чтобы каждому за вечер выпало играть с императором на одной руке.
Старому камергеру шел восьмой десяток; он был глух и не замечал кругом ничего, даже женских глаз. Он был углублен в игру.
— Le systeme… — начал император.
В одну минуту дрожащими руками камергер покрыл все карты императора.
Император выложил на стол три проигранных рубля и повернул спину играющим.
— Я недостаточно богат, чтобы играть в карты, — сказал он и показал улыбку под усами. — Пренебречь, — добавил он неожиданно, строго взглянул на всех играющих и грудью вперед вышел вон из комнаты.
Семейный круг расстроился. Старый камергер более ко двору не приглашался.
К вечеру того же дня получено известие о колебании ценностей на бирже.
30На Васильевском острове были замечены невдалеке от места происшествия двое студентов, подозрительно молчавших.
Мещанин на Кузнецком рынке предлагал «пустить петуха».
Все трое задержаны.
Фаддей Венедиктович Булгарин был потревожен в своем уединении.
Это уже не был брызжущий жизнью и деятельностью ученый литератор, которого знал Петербург в старые годы. Но жил и теперь в непрестанных трудах. Только что недавно определился членом-корреспондентом специальной комиссии коннозаводства и по случаю нового служения стал издавать журнал «Эконом».
— Лошадки, лошадки — моя страсть, — говорил он.
За труды жизни был представлен к чину действительного статского советника.
Из капитальных вещей подготовил к изданию «Победа от обеда. Очерки нравов XVII века» и приступил к печатанью на собственный кошт с рисунками, награвированными на дереве.
Летом жил в деревне, а зимою на просторной петербургской квартире, где завел, соревнуя с Гречем, громадную клетку в полкомнаты, содержа там певчих птиц. Весною он открывал окно и выпускал какую-нибудь птицу на волю, произнося при этом стихи покойного Пушкина:
На волю птицу отпускаю.
Это вызывало большое скопление мальчишек, торговцев вразнос и соседей, знавших, что литератор Булгарин ежегодно выпускает по одной птице на волю.
Обдумывал план своих воспоминаний. Говоря с молодыми литераторами, он утверждал, что существенной разницы между ним и Пушкиным не было.
— Всегда оба старались быть полезными по начальству.
И добавлял:
— Только одному повезло, а другому — шиш.
И, наконец, конфиденциально наклоняясь к собеседнику, говорил на ухо:
— А препустой был человек.
Теперь Фаддея Венедиктовича посетили по важному делу.
Пришли трое: полковник особого корпуса жандармов, поручик Кошкуль 2-й и одно из статских лиц.
От Фаддея Венедиктовича просили и ждали помощи как от редактора «Северной пчелы», чтобы успокоить умы.
Фаддей Венедиктович попросил поручика Кошкуля 2-го подробно описать все происшествие и с пером в руке стал думать. Все трое с невольным уважением следили за переменами его лица, понимая, что это вдохновение.
Фаддей Венедиктович хлопал глазами. Глаза его были без ресниц, в больших очках.
Он стал рассуждать вслух:
— Представить можно, что две бешеные собаки напали, а отрок храбро… Нет, не годится.
— Можно также себе представить, что два волка из соседних деревень забежали… Волки — это весьма годится, это романтично… А отрок… нет, не годится…
Все оказывалось неудобным и не годилось по той простой причине, что император был образцом для всего. Так, например, статья о том, что на императора напали две бешеные собаки, а отрок храбро оказал им отпор, была бы очень прилична, но не годилась: если уж на императора напали, то других и подавно покусают.
Рассказ о двух волках из соседних деревень был романтичен, но несовместим с уличным движением. Замена лисицами обессмысливала вмешательство отрока.
Вдруг взгляд Фаддея Венедиктовича остановился.
— А ну-косе, благодетель, попрошу, — сказал он поручику Кошкулю 2-му, — извольте-с начертить мне план происшествия. На этом лоскуточке.
Поручик Кошкуль 2-й обозначил пустырь, будку, питейное заведение, сани государя императора.
— Попрошу реку, — сказал нетерпеливо Фаддей Венедиктович.
Поручик сбоку отчеркнул реку.
Тогда Фаддей Венедиктович описал за чертой кружок, а внутри кружка с размаху поставил точку и написал «У».
— Утопающая, — пояснил он ничего не понимающему поручику Кошкулю 2-му, — в проруби.
31Назавтра же в «Северной пчеле» появился в отделе «Народные нравы» фельетон под названием: «Чудо-ребенок, или Спасение утопающих, вознагражденное монархом».
На окраине столицы (рассказывалось там) в реке Большой Невке молодая крестьянская девица брала ежедневно воду из проруби. Вдруг — кррах! Неверный лед подломился и рухнул под ее ногами. Несчастная, не видя ниоткуда спасения, погрузилась в воду. Она издает только время от времени протяжный вопль и смотрит со слезами в открытое небо. Но провидение!.. Она слышит над собой чей-то голос — к ней спешат на помощь. То был отрок, малолетный г. Витушишников, проживающий на 22-й линии Васильевского острова с престарелым отцом своим, коллежским регистратором Витушишниковым. Будучи ребенком, он спешил для детских забав на Петербургскую часть, но, услышав жалобные вопли, повинуясь голосу сердца, обратился на помощь погибающей. Однако неокрепшие руки отрока не в силах были удержать жертву. Казалось, и девица и юный спаситель равно изнемогали. Но монарх, в неусыпных своих попечениях проезжая мимо, услышал вопль невинности и, подобно пращуру своему, простер покров помощи.
Вскоре спасенные отогревались в будке градских стражей, и жизнь их ныне объявлена вне опасности. Провидение!..
В знак исторического сего дня не замедлится прибитием памятная доска на будке градских стражей — в память отдаленным потомкам.
Принимая близкое участие в жизни чудо-ребенка г. Витушишникова, редакция объявляет сбор доброхотных пожертвований на приобретение дома для него. Устроителем счастия вызвался быть г. поручик Кошкуль 2-й, который заведует сборами при помещении газеты «Северная пчела».
На доброхотные сборы согласие изъявили: его высокоблагородие г. Алякринский — 3 рубля серебром; его высокоблагородие г. Булгарин — 1 рубль серебром; его благородие г. поручик Кошкуль 2-й — 1 рубль серебром; коммерции советник Родоканаки — 200 рублей серебром.
Тут же принимается подписка на изящное издание со 100 картинками исторического нравоописательного романа: «Победа от обеда. Очерки нравов XVII века». Сочинение г. Ф. В. Булгарина.
32И все же успокоение не наступило.
Император услышал фамилию Родоканаки. Это была новая, доселе не встречавшаяся фамилия. Император спросил у церемониймейстера де Рибопьера. Всегда откровенный Рибопьер ответил ему честным недоумением. Он знал только две сходных фамилии: Родофиникин и Роде; о последней, как принадлежащей музыканту, в разговоре не упомянул. Из камергеров не оказалось знающих Родоканаки или желающих в этом сознаться. По виду фамилия была, впрочем, греческая.
Греческий посол, приятель Рибопьера, был немец, говорил по-немецки, родился в Баварии, был на лучшем счету у короля Отто и вообще не был знаком с греческими фамилиями.