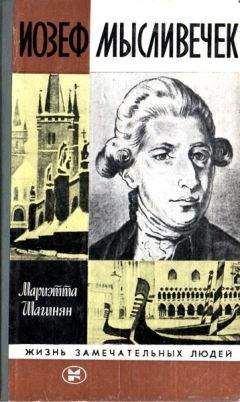Мариэтта Шагинян - Приключение дамы из общества
Я придумала новый способ заработка: пекла пирожные в местные, еще не закрытые кофейни. Когда их закрыли, положение стало критическим. Опять аптекарша надоумила меня:
— А вы коржики пеките да возле почты из-под полы продавайте. Самое людное место, и на службу народ мимо проходит. Я думаю, в один час расторгуете.
Дома я подошла к зеркалу. И все-таки это было мое лицо, несмотря на загар, обветренные щеки, гладко зачесанные волосы. Это были мои руки, хотя и покрытые ссадинами, царапинами, несмываемой смуглотой от картофельной кожуры и угольной сажи. Чтоб не бросаться в глаза, я не надела ни кофточки, ни шляпки. В кухне лежал оставленный нашей прислугой большой шерстяной платок, прожженный во многих местах утюгом. Я напекла коржиков, накинула на плечи этот платок, спрятала под ним корзину и пошла к почте. Мне пришлось идти по главным улицам, и раза два милиционеры пытливо заглядывали под мой платок. Проходя мимо исполкома, я услышала топот копыт.
У дверей исполкома толпилось множество пароду. Кучка красноармейцев сидела неподалеку на земле. Большие белые афиши, наклеенные на тумбу, извещали о митинге с приехавшим из центра товарищем Безменовым. Я остановилась по какой-то непонятной рассеянности и стала глядеть на дорогу. Один из красноармейцев дернул меня за юбку:
— Тетка, что прячешь?
— Не хотите ли коржиков? — ответила я все так же рассеянно, с непонятной для меня неосторожностью. Красноармеец подмигнул соседу:
— А вот посмотрим, какие у тебя коржики, свежие ли?
— Горячие, с печки.
Я научилась говорить и интонировать простонародно. Сдернув платок, я показала ему корзину с горячими коржиками. В ту же секунду он схватил меня за локоть и крикнул во весь голос:
— Товарищ, держи, спекулянтку изловил!
Я стала вырываться с отчаяньем:
— Пустите меня, дайте мне уйти!
— Так сейчас и пустим. Милиционер, иди, составляй протокол!
— Не шумите тут, сейчас митинг начнется, ораторы подъехали.
— Митинг начинается, а вы за спекулянтами не смотрите! Что подумает товарищ Безменов, он сейчас из центра. Ведите ее в милицию, — это говорил негромко худощавый секретарь исполкома, знавший меня в лицо. Не будь столичного гостя, он выпустил бы меня. Я оглянулась вокруг с отчаяньем. Корзинка моя ходила от красноармейца к красноармейцу.
В эту минуту глаза мои встретились со взглядом человека, выходившего из таратайки. Он был в военной тужурке и кожаной фуражке. Из-под околыша блеснули быстрые, внимательные глаза. Короткая верхняя губа приподнялась над мелкими зубами. В ту же секунду мы узнали друг друга. Не знаю отчего, но я вскрикнула, закрыла лицо руками и попятилась от него на руки милиционеров. Милиция, тюрьма, Чека — все казалось мне отрадней, спасительней, сокровенней, чем эта встреча. Я услышала голос:
— В чем дело?
— Спекулянтку с поличным поймали.
— Отпустите женщину, записав ее адрес.
Он совершил беззаконие. Это чуть-чуть утешило меня, точнее, убавило мне стыд. Когда я снова отважилась взглянуть, товарищ Безменов поднимался по лестнице в исполком, спиною ко мне. Милиционер толкнул меня и, даже не подумав спросить адрес, сказал примирительно:
— Чего глаза таращишь? Иди.
Я вернулась домой без корзинки, без коржиков и без денег.
Глава четвертая
— Тетя, тетя, у нас с обыском были.
Навстречу мне кинулись Люся и Валя с оживленными личиками. В жизни бедных детей это все-таки было событием. Я обошла комнаты. Что можно перерыть — перерыто. Не взято ни единой бумажки. На столе оставлен клочок с выведенными на нем большими буквами:
«Удостовиряю, что производя обыск на квартире гражданке Зворыкиной, вследствие которова ничего такова найдено не оказалось. 3-го отд. 2-го участка Бычков».
— А где же камергер? — Я оглянулась вокруг — старика нигде не было.
— Дядю взяли солдаты, — серьезно сообщила мне старшая, Люся, — он очень радовался. Сказал: «Поцелуй нашу добрую Алиночку и передай, что я весел и доволен. Пусть она не скучает». Вот я теперь тебе передала слово в слово.
У меня потемнело в глазах, и я опустилась на стул. Забрать умного, доброго, почти ослепшего, седого как лунь старика! Забрать моего последнего друга. И он радовался, уходя, радовался, что лишним ртом будет у нас меньше… Я опустила голову на стол и в первый раз за все эти дни, за все эти годы разрыдалась. Плакала так, чтоб изойти в слезах, умереть, больше не видеть и не слышать. Дети стали возле меня тихо, как мыши. Люся просунула руку под мой локоть и прижалась ко мне. Валя уцепилась за юбку. Когда голова отяжелела от слез и я затихла, дети шепнули:
— Тетя, а мы печку затопили.
Я вспомнила, что они не ели с утра. Встала, сполоснула лицо, подошла к печке, соображая, что можно сварить. Они уже почистили картошку, вскипятили воду. Мне оставалось назвать их умницами и погладить по головкам. Тогда Люся с таинственным видом сунула руку за пазуху и вытащила оттуда письмо.
— Тетечка, я чувствую, это для нас. Это на мамино имя пришло.
Я распечатала письмо и прочитала несколько кривых строк, написанных мужским почерком. Племянник извещал свою дорогую тетю, что его мама сильно больна нервами, даже не в состоянии лично писать и поручает это ему. В имении у них тревожно, они переселяются в город, а городская квартира мала, и обстоятельства теперь такие трудные, что они решительно не советуют тете перебираться к ним, тем более с детьми. Кстати же они не могут в точности сообщить, когда именно переберутся в город. Далее шли сообщенья о собственных новостях племянника, о том, что его знаменитая премированная сука ощенилась и он возьмет лучшего щенка с собой. Поклоны, поцелуи девочкам, вопросы, нет ли вестей от «счастливца, пребывающего вне сферы досягаемости», подпись «Ника».
Я прочла детям письмо вслух. К моему знанию людей сегодня прибавилось еще нечто. Письмо не удивило и не огорчило меня, только я подумала, что сестра покойной ничего не знала об ее смерти, и я должна известить ее о переменившихся обстоятельствах. Накормив детей, я отправила их в город к своим заказчицам и уселась писать. В нескольких словах я уведомила особу с больными нервами о смерти ее сестры и поставила вопрос о детях, затем сообщила о самой себе и своем отношении к покойной, дала адрес и запечатала письмо.
Сделав это, я придвинула к себе единственный оставшийся лист почтовой бумаги. Закусив губы, с карандашом в руках, медлила некоторое время, глядя перед собой, на остатки убогого нашего обеда: солонку с солью и картофельную кожуру. Две мысли жгли мне сердце, доводя до исступления. Одна о камергере; я не могла оставить его без помощи. Надо было сделать что-нибудь для спасенья старика, идти, просить, хлопотать, узнать, куда его взяли. Другая… в ней едва было силы признаться себе самой. Я не могла допустить, чтоб он думал обо мне как о спекулянтке. Это поднималось и душило стыдом, зажигало бешенством, воскрешало прежнюю Алину, способную на дикие выходки. Я чувствовала к нему ненависть, как к одному из виновников всех наших несчастий. Я была пострадавшей, была обывательницей, ненавидела большевиков, как палку, бьющую меня без устали по голове. Но я не могла перенести мысли, что он считает меня спекулянткой.
Спекулянткой! Кровь бросилась мне в голову, я снова схватила перо и, не раздумывая долго, принялась писать:
«Товарищ Безменов! (Сегодня я узнала впервые, что так вас зовут.) Вы увидели меня на улице в руках красноармейцев, которые кричали, что я спекулянтка. Теперь вы обязаны узнать и все остальное. Да, я нарушила введенные вами законы, потому что мне надо прокормить, кроме себя, еще двоих детей и больного старика. Вы разорили нас, отняли все, что мы имели, и взамен предоставили голодную смерть. Я работаю где и как могу: шью, готовлю, хожу стирать, нанимаюсь для чистки квартиры, для поденных работ. Я привыкла ко всякого рода труду. Но знайте, что в вашей стране, где совершена революция, работа от 7-ми утра до 10-ти вечера не спасает от голода. Мне осталось испробовать лишь ту форму унижения и труда, которую вы называете спекуляцией, но вы отняли у меня все, что я вынесла для продажи и что должно было накормить мою семью. Вернувшись домой, я узнала, что старик камергер Ф. арестован и уведен неизвестно куда. Заверяю вас честью своей, он ни в чем не замешан и никогда не был противником революции. Это может показаться невероятным, но я клянусь всем святым, что от него я слышала самую умную и горячую защиту большевизма. Он почти слеп, стар, болен, нищ. У него никого и ничего нет, кроме меня, он умрет под арестом. Умоляю вас, прикажите его освободить, расследуйте его дело. Не причиняйте никому не нужных жестокостей, и я постараюсь пересилить свою ненависть к вам и вашему делу, ненависть, которой я не могу и не хочу скрыть от вас.
А. Зворыкина».Не дав себе опомниться и раздумать, я запечатала письмо, надписала на конверте: «Тов. Безменову, спешно», накинула все тот же платок на плечи и бросилась бежать в исполком. Митинг уже окончился, народ разошелся. Дежурный сказал мне, что тов. Безменов уехал в соседнее село и вернется к ночи. Я сказала, что зайду за ответом на следующий день, и ушла.