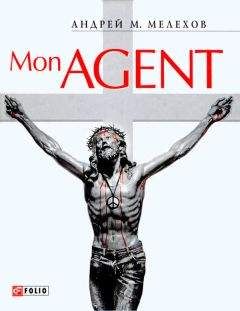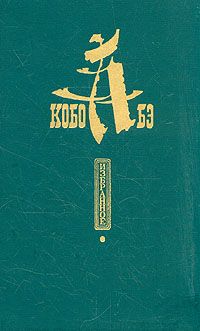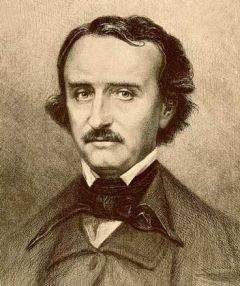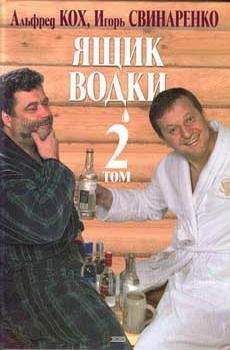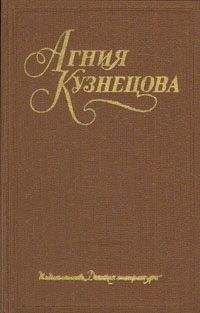Василий Ганибесов - Старатели
Но ведь нет, ведь нет ее Кости!..
— Костя, Костя!.. — задыхаясь от внезапно пронзившего ее сознания гибели Кости, шепчет она вздрагивающими сухими губами.
В свет бутового костра вошел Афанас Педорин. Он был без шапки, и волосы его всклокоченными прядями торчали во все стороны.
Афанас подошел к женщинам, остановившись, посмотрел на них мутным взглядом, и лицо его дрогнуло. Он уронил отяжелевшие вдруг руки. Из кармана его широких старательских шаровар тускло поблескивала закупоренная бумажкой бутылка. Афанас, не подымая головы, еще раз несмело, исподлобья взглянул на женщин, на Елизаровну. На заросшее щетинистыми волосами лицо старателя легла боль, морща сухие губы и щеки. Осторожно, двумя пальцами, он взял за рукав Елизаровну и потянул, показывая в сторону речки. Елизаровна покорно пошла. Настенька с усилием оторвала от земли подошвы и, тыча одеревеневшими ступнями, как во сне пошла за ними.
У речки Афанас огляделся, нашел пенек в десяти шагах от дороги, прошел к нему и, указывая его задрожавшей Елизаровне, хрипло сказал:
— Здесь.
Елизаровна опустилась на землю, прижалась к ней щекою и обняла ее. Настенька села рядом. Афанас по-китайски, на корточках, склонив голову, сидел подле женщин. Елизаровна в отчаянии билась головою о землю. Настенька молча ломала руки: она сбила платок, и волосы ее упали на плечи и лицо.
Афанас смотрел на них, горько морщась. С лица его на руки, упертые в колени, упали слезы. Он всхлипнул, не вытерпев, и ему вдруг безгранично стало жалко себя за тяжелую свою жизнь, за тоскливое свое одиночество.
— Как сын он мне... — едва пошевелил он неподчиняющимися губами. — Один я... на всем свете...
Подступившие рыдания согнули его, он скрипнул зубами, непривычно и страшно застонал. Затем он вытащил из кармана, бутылку, не отрываясь, долго пил из нее, потом бросил и закрыл глаза.
Через минуту, когда он снова открыл их, он был уже пьян. Качнувшись, Афанас тяжело сел и, ладонями опираясь о землю, медленно поводя невидящими, мутными глазами, бессвязно заговорил:
— Не надо... Нельзя их... откапывать. Пусть!.. Пусть, вымоют их... вместе с золотом. Пусть!..
Он поднял голову и бессмысленно посмотрел вверх.
Потом замолчал. И так сидел, не шевелясь, с поднятым вверх лицом...
Когда он осмотрелся, ни Елизаровны, ни Настеньки не было.
На востоке уже чахли звезды, и в голубеющей полоске неба возникали смутные очертания седловатого Акатуйского хребта.
Афанас хотел встать — рука его нащупала цветы. Он поднес к глазам горсть «марьиных кореньев», улыбнулся им и бережно, как венок, положил на землю...
А в шахте все еще работали, не останавливаясь ни на одну минуту. Вечномерзлую скалу, кремневокрепкую и неприступную, с отчаянным бешенством били старатели. Ломались кайлы — их отбрасывали, брали пешни и ломы и опять долбили, стиснув зубы.
Иннокентий Зверев бил породу самым тяжелым ломом. С плеча Зверева сползала разорванная рубашка; он сорвал остатки ее и отбросил. Оголенный до пояса, с заросшею черным волосом грудью, Зверев долбил скалу, как машина. От его ударов разлетались каменные осколки и синий огонь брызгал, как от гигантской зажигалки. Зверев не сменялся уже шестнадцать часов. Старатели предлагали ему идти домой, отдохнуть, но он молча исступленно продолжал бить ломом.
Землисто-серый, осунувшийся Усольцев стоял в коридоре около дежуривших забойщиков. Сзади него на корточках сидел Илья Глотов и вполголоса рассказывал старателям:
— А вот в Акатуйской каторге в германскую войну там всю смену баб каторжанок в один миг... Одно мясо в тряпках, а остальных священник отпел прямо в шахте...
— Перестань! — грубо оборвал его Усольцев.
Илья опасливо оглянулся на Усольцева, присел еще ниже и, скрадывая голос, опять забормотал:
— Ходит это он наверху, поп-то, вокруг копра, кадит там и, как полагается, отпевает рабынь божьих Марью там, Дарью... А у которых, — у нерусских-то, — ни имя, ни фамилии не выговоришь, так он их по номерам.
Глотов, забывшись, по-гусачьи вытянул шею и похоже, по-поповски, нараспев загудел:
— Упокой, господи, души рабынь твоих: Аксинью, Клавдию, тринадцатый номер, Катерину и номер сто девяносто че-эт-ве-орт-ый... Вот смеху-то было!
От забоя тяжело обернулся Зверев, взлохмаченный, с ощеренными зубами; он с ломом наперевес, согнувшись, кинулся к Глотову.
— Смеху... было... а?.. — зарычал ой, но к нему бросился Усольцев, цепко схватил его за руку.
— Убь-ю-у! — страшным голосом закричал Зверев, порываясь ударить Глотова. — А-а! — вдруг захлебнулся он и повалился, закатывая глаза.
Усольцев подхватил падающего Зверева и опустился с ним на землю, оберегая его голову от удара. Подскочившие старатели схватили старшинку за руки и за ноги, а он молча, с нечеловеческой силой встряхивал их и отбрасывал от себя в стороны.
5
Утром, как вчера, как сто лет назад, как всегда, все так же бодро и весело взошло солнце. Со вторым гудком старатели деловито и привычно, словно ничего не случилось, ушли на работу; в восемь часов открылся магазин, в девять — контора прииска, в десять — поднялись и зажужжали разгоняемые дымом пауты. Нудное жужжанье их, свежий, до блеска умытый день — все это обычное почему-то угнетало Свиридову, вызывало в ней глухо нарастающее раздражение.
Началось это еще ночью в шахте, когда стало ясно, что Данила и его люди остались там, под обрушившимся потолком, что им уже не выйти и никакие усилия и ярость Зверева не помогут им.
И когда это стало ясно, Свиридову вдруг охватило отчаяние: «Это я закопала их!..»
Она сказала это мысленно. Холодная дрожь прошла по ней, лицо побледнело.
Всю ночь, бродила она по прииску, стараясь стряхнуть, перебороть гнетущую подавленность, вытеснить ее усталостью. Но как раз именно в те минуты, когда казалось, что наступает облегчение, что ей лучше теперь, чувство подавленности острой болью вдруг вновь пронизывало ее.
«Нет, это я закопала их, я!» — глухим шепотом говорила она в темь ночи.
Она не могла понять, что не чувство виновности, не оно гонит ее по прииску. Гордость, жалко повергнутая на глазах всех, и смятая, постыдно раздавленная уверенность в себе, беспомощность и бессилие — именно это гнало ее куда-то.
К горлу подступали слезы щемящей, горькой обиды. Ей хотелось упасть прямо в траву и разрыдаться, облегчить криком душу.
Утром, когда начинался такой обычный, такой всегдашний день, Свиридовой внезапно пришла мысль, что ведь и вчера, и на прошлой неделе, и при прежнем директоре старатели так же, покашливая спросонок, разминаясь, шли на работы; так же смеялись, беззлобно переругивались, может быть, несознательно, но строили невидимое, но важное, самое реальное из всего реального здание жизни. Пройдет время — не будет здесь ни Усольцева, ни Свиридовой, как нет вот ее предшественника — директора; может быть, и ее снимут, может быть, даже она умрет, а они, люди, старатели, все так же, покашливая, смеясь и покрикивая, будут ходить в разрезы и шахты мыть золото, строить, и никто не заметит отсутствия ее, как не замечают сейчас отсутствия бывшего директора, забыв даже имя его.
Глубоко потрясенная этими внезапно родившимися в ней мыслями, Свиридова оцепенело долго стояла у стволов. Но вот сейчас она ясно увидела, даже с холодной оторопью почувствовала, что ведь ничего, вовсе ничего, кроме нее и ее сознания, ничего не исчезнет. Все так же свежо будет зеленеть трава, так же будут жужжать пауты, так же будут порхать эти птички, с такой же деловитостью будут копошиться в разрезе старатели. Она почти с ненавистью смотрела на Щаплыгина, украдкой от постороннего глаза обтиравшего свою голую, как пятка, несуразно большую голову, и с жгучей болью завидовала ему, словно впрямь Лаврентий Щаплыгин был бессмертен.
Она пошла от разреза с томящим, гнетущим чувством нерешенности чего-то и с сознанием отвратительной беспомощности.
В отвалах 14-й шахты к ней подъехал на галопе Усольцев. Он на ходу соскочил, бросил своего Чалку, тут же свернувшего в кусты, и, жарко дыша, с тревожной настороженностью быстро подошел к Свиридовой.
— Что случилось? Что еще? — нетерпеливо закричал он, злясь на Свиридову, вынудившую его с тревогой скакать за нею по всему прииску.
Свиридова ждала, пока он подошел к ней. Ей нравилась уверенность его в том, что он делает совершенно необходимое дело, что это дело только он может делать и никто другой, и если почему-либо он не будет делать, то все пойдет к черту, все пропадет.
— Вас там ждут, — сказал Усольцев тише, заметив ее необычное состояние и поняв, что произошло что-то лично с нею. — Мне железа надо, — вдруг совершенно некстати сказал он; и оттого, что сказал не то, что нужно было сказать, он смешался еще более. — Этого... круглого, — горько морщась, договорил Усольцев.