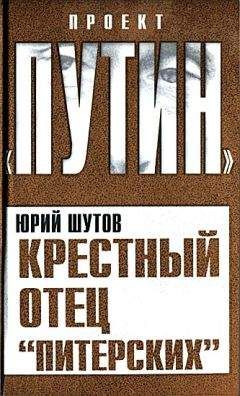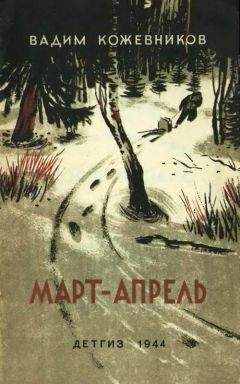Иван Шутов - Апрель
— Фридрих, слышишь? — выкрикнула она, и оттого, что Рози так дружески и просто обратилась к нему, сердце Гельма радостно забилось.
— Да, Рози, слышу!
— Я сначала подозревала, что ты хотел меня разжалобить и заманить в ловушку. Как неопытную девчонку! Если бы это было так, то я бы тебя здорово отлупила. Я ведь сильная.
— Ну что ты, Рози! — смущенно ответил Гельм. — Я об этом и не думал.
— Я ведь вижу, как на меня посматривают и доктор Райтер и хозяин дома. Им хотелось бы обмануть меня.
— Они мерзавцы!
— Я знаю, чего они хотят. А тебе я скажу, что тому, кто полюбит меня по-настоящему, я буду хорошей подругой.
— Полюбит? Как бы это со мной не случилось, — тихо проговорил Гельм.
Рози умолкла. Из кухни она вышла чистой, нарядной, бойко постукивая каблучками туфель, прижимая к груди молитвенник. Гельм подал ей флакон одеколона.
— Ну, в кирху я окончательно опоздала, — весело проговорила Рози.
Гельм взял ее за руку:
— Спасибо, Рози. Ты поступила как настоящий товарищ. Я не справился бы с одной рукой.
— Зато у меня две руки, — улыбнулась Рози. — Я тебе всегда могу ими помочь. А что нам делать, Фридрих, с воскресным днем? Он ведь только начался…
— Сегодня, Рози, устраивается пикник. Хочешь, примем в нем участие? Будет интересная беседа. Возможно, ее проведет Зепп, и ты увидишь его. А потом повеселимся, потанцуем. Соберутся мои товарищи по заводу. С ними тебе не будет скучно.
— Хорошо, — согласилась Рози. — Пойдем к твоим товарищам. Но гулять, не отмолив грехов за целую неделю?
— Грехи? У тебя грехи? У твоей хозяйки, по-моему, их куда больше, однако она не пошла сегодня в кирху.
— С тобой мне как-то легче стало, — призналась Рози. — Не чувствую себя одинокой.
— Ты готова? Идем сейчас же. К дому через десять минут должна подойти машина. Молитвенник оставь, сегодня он тебе не понадобится.
Над городом снова стали звенеть колокола. Но Гельм и Рози не слышали их зова.
Катчинский видел эти колокола. Их тусклые бока были окраплены пятнами голубиного помета. Они пели над городом древнюю песню. Огоньки у распятия, замирающие под высокими сводами раскаты органа… «Это хорошо и свежо было в детстве, — думал Катчинский. — Теперь мое сердце не откликнется на этот призыв».
А колокола гремели под апрельским небом, взывали, и Катчинский видел Черного Карла, раскачивающего веревкой перекладину с подвешенными к ней колоколами.
Он жил в подвале каменного колодца-двора, звонарь кирхи святого Роха. В этом дворе прошло детство Катчинского.
Черный Карл был одинок и хмур. Он всегда молчал. Кажется, никто никогда не слыхал от него ни слова. Лохматый, как медведь, он по-медвежьи косолапил, когда проходил двором, торопясь в кирху или возвращаясь домой. Каждое утро с недалекой Мариахильферштрассе до двора доносились звуки колоколов. Дети говорили: «Это Карл». И Лео казалось, что в узловатой руке Черного Карла находились веревки от всех колоколов города. Звуки, круглые и блестящие, уходили к небу и таяли в нем.
Тогда на востоке и западе гремели пушки. Сын Черного Карла был на войне. Лео видел в журнале рисунок, изображающий солдатскую елку в окопах: составленные в козлы ружья, на штыке труба горниста; тонкий дымок от костра вьется к небу, а по нему, как по дорожке, с заоблачных высот спускается белый ангел. Он несет украшение для скромной солдатской елки — ярко пламенеющую звезду. А бедные солдаты, не зная об этом счастье, спят у костра, тесно прижавшись друг к другу… Рисунок привел в восхищение Лео. Ему захотелось быть вместе с солдатами, чтобы проснуться и увидеть чудо. Он завидовал им.
Однажды почтальон в синем кепи, с туго набитой кожаной сумкой нырнул в подвал. Оттуда вскоре вышел Черный Карл, гневный и страшный. Став посреди двора, он поднял к небу огромный кулак с зажатым письмом, крикнул: «Этого я тебе никогда не прощу!» По щекам старика текли крупные слезы. Его сын погиб на войне. Карл грозил кулаком богу. Это было страшно. А вечером над городом звенели колокола, и дети двора говорили: «Это Карл». И с тех пор в воображении Катчинского при звоне колоколов вставало орошенное слезами лицо Черного Карла. Ему казалось, что слезы старого звонаря стали звуками меди и взывают к небу…
Во дворе зазвучали шаги и замерли возле коляски. Катчинский раскрыл глаза и увидел Гельма и Рози. Девушка смотрела на Катчинского с почтительностью и сожалением. Гельм приподнял над головой шляпу:
— Простите, я разбудил вас. Вы спали?
— Нет, — ответил Катчинский. — У меня теперь для сна достаточно времени, но мне не спится. Я слушал музыку колоколов.
— Я вам помешал?
— Нисколько.
Гельм улыбнулся:
— Маэстро Катчинский, вы помните меня?
Катчинский внимательно всмотрелся в лицо Гельма.
— Нет, не помню.
— Конечно, это было давно. Трудно запомнить. Меня зовут Гельм. Фридрих Гельм. Я был тогда двадцатилетним мальчишкой. В заводском оркестре я играл на трубе. Дома вечерами репетировал мендельсоновский «Свадебный марш». Представляю, как вас раздражала моя музыка! Вы даже как-то велели Иоганну передать мне, чтобы я пощадил уши соседей. А если мне так уж хочется потрясать своим ревом воздух, то вы советовали отправиться в зоологический сад, где ослам и обезьянам моя музыка доставит удовольствие.
— Вы помните — значит сердитесь на меня за это? — улыбнулся Катчинский.
— Нет. Ведь это было давно. А теперь, видите, я не тот.
— И я тоже, Фридрих.
— Нас, маэстро Катчинский, теперь сроднило общее несчастье, которое принесла война.
— Да, мы с вами родственники. Вы, надеюсь, идете не в кирху?
— Нам там нечего делать, маэстро. Мы идем на массовку, которую устраивает Зепп Люстгофф. Я рассказывал ему о вас. Он просил передать вам привет. Он хорошо знал вас по довоенному времени. И писал о вас в газете.
— Зепп Люстгофф? Он музыкальный критик?
— Нет, маэстро, он старый агитатор. В статье он высказывал сожаление, что вашу музыку не слышит пролетариат. И звал вас в Флоридсдорф.
— Теперь я догадываюсь, кто такой Зепп Люстгофф. Передайте ему привет. Скажите, я сожалею, что не выполнил тогда его пожелания. А теперь я не музыкант.
— У вас есть имя, маэстро. Его помнят многие.
— Ну и что же? Ничто в мире не изменилось. Солнце светит по-прежнему ярко. На земле апрель, а за ним наступит веселый месяц май. Люди живут, любят, страдают, но все это так далеко от моей коляски! Я остался один. Что до меня людям?
— Всех, кто знал вас, кто слышал вашу игру, должно потрясти то, что произошло с вами.
— Но они не знают. И это к лучшему.
— Нет, — убежденно ответил Гельм. — Я простой человек, бывший литейщик, теперь трубочист. Но вы можете сказать то, чего не могу я, и ваши слова никто не посмеет опровергнуть. Вы не должны молчать!
Катчинский откинулся на подушку, закрыл глаза.
— Извините, — смущенно сказал Гельм. — Я больше не буду вас тревожить. Прощайте!
Катчинский приподнялся, глаза его блеснули живо и молодо.
— Погодите, Фридрих. То, что вы сказали, очень верно. Я подумаю над этим. Это очень верно…
На улице раздался резкий автомобильный сигнал. Хор голосов выкрикнул: «Гельм! Фридрих!» Затем во двор вбежал паренек в светлой кепке. Увидев Гельма, он приветливо взмахнул рукой:
— Фридрих! Машина ждет. Все собрались.
— Я сейчас, — ответил Гельм.
Катчинский протянул ему руку:
— Не буду задерживать вас. Идите. Вы счастливец: у вас есть товарищи.
— Они могут стать и вашими товарищами, маэстро.
Гельм и Рози торопливо прошли через двор и исчезли под сводчатой аркой. Катчинский проводил их взглядом.
Колокола умолкли.
Лаубе принял Хоуелла и Гольда за столом у подвала. Приказал хаусмейстеру Иоганну принести вина. Капитан был мрачен и долго молчал. Гольд барабанил пальцами по столу, пил и похваливал вино.
«Пил бы уж молча, тощая глиста! — думал Лаубе. — Тем более что за вино тебе платить не придется».
После долгого молчания компаньоны заговорили наконец о делах. Хоуелл плохо знал немецкий язык, говорили по-английски. Гольд внимательно слушал. Хоуелл рассказал о попытке договориться с Джоном Роу — поставщиком вина в районе за каналом. Попытка ни к чему не привела. Роу накопил вина в пять раз больше, чем конкуренты. Он ждет только открытия моста, чтобы восторжествовать.
— Я подозреваю, что Роу подкупил Лазаревского. Он слишком уверен в сроке окончания моста. Лазаревский работает на него. Так быстро строить можно, только имея хороший материальный стимул. Значит, Роу не поскупился.
— Так ли это? — усомнился Лаубе. — Лазаревский живет в моем доме, знает, что я торгую вином. Если бы он захотел заработать, то прежде всего заговорил бы об этом со мной.
— Но Роу мог нас опередить, — возразил Хоуелл. — Ему покровительствует полковник из нашей комендатуры, — имени его я вам не назову. Роу делится с ним прибылями, а полковник предоставляет ему из гарнизонного транспорта машины. У них настоящий трест. Полковник мог договориться по поручению Роу с Лазаревским раньше, чем тому пришла в голову мысль разговаривать с вами, Лаубе. Может быть, Лазаревский согласится получить больше от конкурентов Роу. Нужно узнать. Это мы поручим Гольду. У него с Лазаревским деловые отношения.