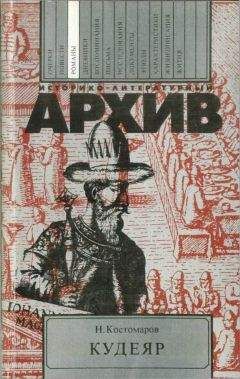Сергей Черепанов - Родительский дом
Только очень мало побыл горелый сноп на столбе у ворот. Пришел Бабкин и велел его снять: «Немедля убери это пугало! Не смущай народ! Не думай, что поверье обережет от огня!» Затем в тот же день посыльный Аким Окурыш разнес по селу приказ сельсовета, чтобы сами мужики охраняли свои поля. Приехали из Калмацкого в помощь участковому милиционеру еще двое, в штатском. На общественном гумне Гурлев поставил сторожей, на ночь отряжал в леса вооруженных берданами комсомольцев.
Почуяв большую опасность, Согрин сразу же кинулся к Окуневу, но того, как на грех, дома не было, и потому нужда заставила самому поспешать…
Барышев скрывался в овраге на берегу Течи под видом рыболова. Это место выбрал для него мельник Петро Евдокеич, давний заединщик Окунева, мужик нрава крутого, но надежный и не трусливый.
Правобережный овраг у подножья меловой горы река огибала крутой подковой. От берега до пологой вершины здесь густо росли березы, ольха и черноталы, увитые хмелем, а сам берег обрывался у глубокого омута и пользовался худой славой. Хоть и водилась тут рыба, даже налимы, никто из жителей ближних деревень не решался заниматься их промыслом.
Днем Барышев ставил жерлицы на щук и отсыпался в дерновом балаганчике, устроенном поодаль от реки. Ночью уходил на разбой верст за десять отсюда, по волчьему правилу: возле логова никого не трогать!
Весь путь от Малого Брода до реки Согрин ехал верхом, без седла, подложив под себя кошомку. Сторожко ехал, минуя дороги, по березовым колкам и опушкам. Еще в распадке, уже у реки, прежде чем оставить коня и пешком перебраться по мелководью на правый берег, постоял, прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. На песчаной отмели суетливо бегала трясогузка, а река тихо плескалась в осоке, где кормился утиный выводок. Ласково ворковал голубь-витютень. Звенела крыльями зеленая стрекоза. На том берегу, у оврага, под высокой ольхой стояли подряд три жерлицы.
Барышев сидел у балаганчика, подбирая сучком березы еле тлеющие на костре угольки.
— А я тебя сыздаля узнал, Прокопий Екимыч, — сказал он, вяло подымаясь и здороваясь. — Сам пожаловал. Значит, случилось неладное?
— Ты думаешь, поди-ко, народ примет беду безропотно, — ответил Согрин. — У него хлеба горят, а он станет сидеть и моргать глазами! Таких дураков теперича нету! Да и не шибко управный ты! Я же велел сжечь все суслоны у меня на полях с десяти десятин, а ты с краю прихватил несчастных четыре десятины и тем ограничился. Пошто так?
Барышев повел плечами, пробормотал:
— Евтей Лукич передавал мне, да посумлевался я. Не ошибся ли он? Конечно, для отвода подозрений суслоны надо было пожечь, да ведь не все же! Жалко стало экую прорву хлеба сничтожить!
— Твоя ли это забота? — резко спросил Согрин. — Раз хозяин велит, так лишнего рассуждать не следовало. То ли я весь хлеб в поле спалю, то ли заставят его сдать как излишки в казенный амбар по дешевке, для меня-то одинаково убыток. Вот иные хозяева прячут излишний хлеб в ямы, гноят его там, переживают всякий раз, если комиссия от сельсовета во двор является. Яму найдут — конфузу-то сколько! Еще и судом станут судить. Я поступаю проще: не прячу! Что хлебушку-то в яме гнить, что сразу в поле сгореть, — один конец, зато если сожрет его огонь, то с меня спросу нету. А тебе, видишь ли, еще и рассуждение понадобилось! Нет уж, Павел Афанасьич, я не люблю, когда мне перечат!
Барышев опять присел к потухающему костру, достал из золы испеченную картошку, покатал в ладонях.
— Припасы у меня кончились, Прокопий Екимыч! И одежа сносилася! А ночи стали студеные.
Согрин и сам видел — не удалый молодец перед ним. Сотня рублей, брошенная при первой встрече, впрок не пошла. Снова обношенный, с выпуклой куриной грудью, остро пропахший потом и дымом, бродяга этот уже давно бы, наверно, подох, если бы не подогревала его жажда мщения.
— Сегодня уйдешь отсель! — сказал ему. — Придется снова на время исчезнуть.
— Без денег никуда не пойду, — решительно заявил Барышев. — Заробить их негде в моем положении. Надо жрать, надо за квартиру платить и надо все же сменить одежу.
Согрин достал из бумажника новую сотню, Барышев принял, но не двинулся с места.
— Еще давай!
— Хватит. Деньги-то я сам не печатаю. Поживешь скромнее.
У него в бумажнике лежали еще три сотенных бумажки, а отдать их раздумал: дать сразу много, значит, поводок ослабить! Погуляет Барышев на длинном поводке, по своей вольной воле, да и махнет обратно в Сибирь, за темные леса, за высокие горы, а не то пьяным напьется и все разболтает.
— Скромнее поживешь, — повторил Согрин. — И засиживаться тебе не дадим. Вот поутихнет народ, милиция из села уберется, так к молотьбе, дай бог, ты снова понадобишься!
Барышев, обжигая губы, жадно сглотал печеные картофелины, сбросил с ладоней обгорелую кожуру и запил еду из фляжки речной водой.
— Я могу любую нужду стерпеть, Прокопий Екимыч, но не ради мелкоты! Бегать-то по ночам и поджигать суслоны — это ребячье занятие. Уж коли рисковать, то было бы за что!
— Всему свое время, — обнадежил Согрин.
— Дозволь хоть с моей бабой расправиться!
— И думать не смей! Теперич ты невидимка, никому невдомек, что ты живой тут где-то поблизости, а из-за бабы себя откроешь. Не торопись с ней! Не так уж она и виновата перед тобой. Сам ты весточки не подавал. А как же ей в домашности без мужика обходиться?
— Другие обходятся.
— На подножном корму пробавляются, — осклабился Согрин. — Твоя-то хоть не вольничает, а сошлась и живет. Но ты и на ее полюбовника не вздумай руки поднять!
Тут он нахмурил брови, пригрозил пальцем.
— Небось он тебе родня? — так же мрачно спросил Барышев.
— Насчет его у меня отдельный план! Оторвался ты, Павел Афанасьич, от земли и от жизни. Вот и не суйся в воду, не зная броду. Пропадешь!
Обречен он был, этот Барышев, самой судьбой. Как покойник. На его лице не осталось уже ни одной живинки: землистые впалые щеки, бескровные губы.
Согрин отворотился, брезгливо сплюнул.
Страх терзал Барышева многие годы. В этакой большой стране не находилось жалкому бродяге места, где бы он хоть на время забылся. Прокопий Екимович потому и доверился ему, что Барышев уже не принадлежал себе. Все пути к покаянию, к честной жизни для него были закрыты навечно. Он мог рассчитывать лишь на смерть. А боялся ее. Так обернулась ему погоня за славой. Хотел от Колчака нахватать наград, разжиться награбленным, забогатеть, а схватил людское проклятие. Совсем случайно узнал об этом Прокопий Екимович. Однажды в городе на базаре покупал селедку, а на обертку попала газета за девятнадцатый год, с описанием расправы колчаковской контрразведки с партизанами и красными солдатами, попавшими в плен. Черным по белому было написано, как Павел Барышев командовал их расстрелом. Ну, и прибрал Прокопий Екимович эту газетку, сохранил, а она и пригодилась впоследствии. Все село числило Барышева давным-давно в мертвых, но он в прошлом году вдруг прислал письмецо своей дальней родственнице Зинаиде, в село Калмацкое, от которой оно перешло к Прокопию Екимовичу.
Дождался он, пока Барышев наладился в путь, и проводил его по правобережью. Там пролегала малолюдная дорога на Калмацкое и уж никак не мог встретиться кто-нибудь из малобродских мужиков.
— С богом, с богом ступай! — сказал ему на прощанье. — И чтоб никакой своей воли…
Это сама жизнь научила — быть невидимкой и все делать невидимо. Проклял бы ее Согрин, но она ведь не шапка, что взял да сменил на новую.
Эту же мысль высказал потом и Евтею Лукичу, когда тот спросил, куда подевался Барышев.
— Не прежнее время теперь, чтобы себя-то выказывать. Попадешься — никакой деньгой не откупишься! И по своему желанию жизнь не построишь. Если уж рисковать и цель свою соблюдать, то в надежности, что на крючок не поймаешься. По моему разумению, в любой драке, коли не хочешь битым быть, завсегда надо поступать разумно, не торопясь и с расчетом. Один раз вдарь, но со всей силой, а потом отойди на время, выжди момент. И снова со всей силой вдарь по больному месту. Вот потому я Пашку-то Барышева отослал покуда и тебе, Евтей Лукич, велю: спрячь свои коготки, не пытайся кого-нибудь поцарапать, наберись терпения до молотьбы.
И сам терпеливо ждал, пока мужики возили с полей снопы, укладывали в гумнах скирды. Однако опасность не миновала и пустить по гумнам «красного петуха», как намечал, не пришлось…
8
Осень еще не торопилась уйти с Зауралья, хотя подгоняли ее резкие холодные ветры.
Пока шла молотьба, дни стояли погожие, неяркое солнце в затишках пригревало. Затем молодая раззолоченная осень, такая веселая и величаво прекрасная, вдруг как-то сразу поникла, постарела и покинула неуютное место.