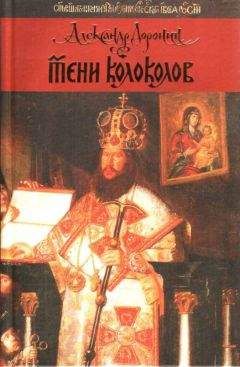Александр Доронин - Перепелка — птица полевая
— Однажды плыл по небу Инешкепаз, — дальше продолжил старик свою побасёнку, — смотрит, за женщиной мужчина бежит. Оба голые, даже грех не прикрытый. Догнал он красотку, и они скрылись в траве. Почему, думаете? — Эмель погладил бороденку, видит — мужики ржут, остановил их: — Гу-гу-гу, тыквенные ваши башки… — землянику они там собирали! — О чем-то глубоко задумался, наморщив лоб, — да, вот еще о чем забыл сказать, братцы!..
Как долго ни следил Инешке, все удивлялся: во всех делах были первыми наши предки. Лосей в свои дворы завели, те потом в коров превратились, сбросили ветвистые рога. Охотились на кабанов. А уж рыбу… бочками солили!
Широкой была Сура, не как сейчас — узкая воронка. В половодье, рассказывают, так поднималась, что жителей только Пор-гора спасала…
— А почему село назвали Вармазейкой, Инешке тебе не говорил? — пристал к Эмелю один из механизаторов.
Тот опустил голову. Помолчал и снова стал чесать языком:
— Не зря моя Олда, говорила, что у тебя, мол, язык, как мельница: мелет и мелет… А я всегда правду говорю. Много ветров, бывало, кружилось по нашим местам, они качали дремучие сосны и ели. Поэтому назвали наши предки свое родное село по шуму ветра: Вар-ма-зей-ка. Ветер шумел и шумел, и село росло с каждым годом.
Судосеву надоела болтовня Эмеля, и он сказал:
— Ты, Емельян Спиридоныч, лучше рассказал бы, как казанский татарин тебя надувал.
Эмелю стало не по себе, как будто у него отняли еду. Он встал из-за стола и сердито бросил:
— Я об истории разговор веду, а ты, годок, лишь зубы скалишь, — и, приседая на левую ногу, вышел из столовой.
Механизаторы усмехались и в то же время подумали: а что, может, и правда поэтому так назвали их село?..
* * *Во время войны Эмель был в обозе — возил на передовую патроны, крупу, сухари — всё, чем наполняли подводу. Попадал под бомбежки. Батальон, в котором воевал его близкий друг — Абдурахман Харисов, татарин из-под Казани, окопался недалеко от села, занятого неприятелем. В затишье между боями Эмель с Абдурахманом, как земляки, доставали нехитрую еду, фляжки с оставшимися наркомовскими ста граммами, вспоминали о родных местах. Татарин много рассказывал о лошадях. Перед войной в их родном селе Шадиме почти каждая семья держала по четыре-пять лошадей. Эмель удивлялся: зачем столько? Друг начинал загибать пальцы: на одной пахали-сеяли, бороновали, на другой ездили в гости, третью держали для потомства.
— Других для чего? — недоумевал Эмель.
— На мясо! Ты ел когда-нибудь махан?
Эмель отрицательно покачал головой:
— Хоть что со мной делай — в рот его не возьму.
— А кумыс пил? — не отставал татарин.
— Раз пробовал козлиное молоко — полдня рвало.
— А, ить-ю, козлиное молоко! — под ноги плевал татарин. — Оно выменем пахнет. Ты кумыс бы попил: хоть всю ночь хлещи спирт — утром им опохмелишься, башка сразу отрезвеет. Когда-нибудь угощу, кунак…
Однажды, после взятия Киева, когда их батальон прочищал от уцелевших немцев близлежащие населенные пункты, они вошли в небольшой хутор. И что там очень удивило солдат — около уцелевших домов паслись на лугу… породистые лошади. Возможно, с конезавода убежали. Война не только над людьми издевалась… Ну, вошли в тот хутор, куда, чувствуется, не заходили немцы, Эмель распряг коня у первого дома, собрался передохнуть. Тут откуда-то Харисов.
— Ты, кунак, что, спать собрался? Забыл, что сегодня воскресенье? Эка, житель Казани, ты, гляжу, совсем без соображения…
— Почему я житель Казани? Я эрзянин, из Мордовии. Среди татар никогда не проживал, — не выдержал Эмель. — Перестань зря трепаться, а то обижусь…
— Спи, спи, кунак. Я вот из-за чего пришел. Молока принес. — Он достал из-под плаща фляжку. — Твою давай, если пустая. Пойду и себе налью, хозяйка доит корову…
Эмель протянул другу фляжку, виновато сказал:
— Ты уж, Абдурахман, сегодня не скрипи зубами. Очень устал я. Рыжуху, видишь, тоже ранило, — показал он на лошадь, которая, держа на весу правую переднюю ногу, уныло стояла у плетня.
— А-а, на махан пригодится! Здесь люди погибают, не только лошади, — махнул рукой татарин и ушел.
Эмель зашел в дом, там где попало, не раздеваясь, уже спало несколько солдат. Достал из вещмешка сухари, стал грызть, смачно запивая молоком. С голода не заметил, как опорожнил фляжку. От парного молока пахло душицей и щавелем.
Поел и растянулся на широкой лавке. Встал под утро, вышел посмотреть на свою Рыжуху — вместо нее стоял породистый жеребец. Эмель испуганно побежал к взводному, который остановился через двор, начал жаловаться: так, мол, и так, товарищ старшина, другую лошадь кто-то привел вместо моей.
— Это я ее поменял… Заходил ефрейтор Харисов, сказал, что твою Рыжуху ранили. Будить тебя не стал — храпел вовсю. Пока здесь стоим, нечего глазеть, рысаки без хозяев бродят. Не переживай, породистую лошадь тебе поймали.
После завтрака взвод собрался в дорогу. Кто пешком, кто, как Эмель, на телеге.
Под вечер пошел сильный дождь. Когда вышли к Днепру, вода, поднялась, пытаясь хлынуть к окопам, вырытым наспех, на один день. Уставшие бойцы забеспокоились:
— Как сейчас под дождем по реке?
— Господи, хорошо хоть пули не свистят. Командир взвода Потешкин приказал вновь отступить к лесу. На счастье, наткнулись на несколько землянок. Оставив около лошадей часовых, зашли погреться.
Эмель с Харисовым зажгли огонь, разделись, отжали сырую одежду и развесили сушиться.
У одного солдата, которого Эмель почему-то не долюбливал, оказалась бутылка спирта. Сели ужинать.
— Ой, а я мясо, мясо забыл… Утром хозяин, где ночевали, теленка зарезал, все равно, говорит, полицаи могут отобрать, вот и отложил, — татарин вынул из котомки большой кусок вареного мяса и начал резать. Эмель потянулся к еде первым: как-никак Харисов — друг, столько уже километров вместе проехали.
Солдаты поели досыта. Самый пожилой, шахтер из Донбасса, даже сказал, улыбаясь:
— Это, Абдурахман, не телятина, а лосиное мясо, земляникой пахнет.
Поели, поговорили, легли спать: завтрашний день еще труднее: предстоит переправляться через Днепр.
Друзья сразу уснули, а у Эмеля разболелся живот. Еле успевал под дождем по нужде бегать. Поднял Абдурахмана, с раздражением спросил, чем кормил.
— Маханом, чем же еще, — ухмыльнулся татарин.
— Откуда, шут, махан взял, с неба?
— Как откуда, твою лошадь зарезали. Зачем тебе она, хромоногая?
— Когда, некрещеный? — присел Эмель на глиняный пол.
— Вчера, пока ты спал. Вон кто ее резали — показал друг на солдат — четвером…
В ту ночь Эмель глаз не сомкнул. Утром, когда дождь перестал, запряг нового рысака.
Увидел Харисова: тот, выходя из землянки, протирал глаза… Вновь застрочил на него, как из пулемета, что брызги полетели изо рта:
— Ты, нехристь, ты…
— Э-э-э, кунак, сейчас мы с тобой еще ближе стали. Осталось тебе только поклониться Аллаху. — И, как всегда, шмыгнул носом. — Махан ел? Ел! Кумыс пил? Пил! Осталось тебе только в мечети помолиться…
— Как, и вчерашнее молоко было лошадиное? — еще больше растерялся Эмель.
— Коровье где тебе возьму, корову наш взвод не держит. У старшины лошадь подоил…
… Уж после войны, через много лет, кому-то признался Эмель, как опростоволосился перед татарином, и в селе сразу же к нему пристало прозвище: Казань Эмель.
Казань Эмелем стал, а вот сколько Харисов ни приглашал его в гости, в Казани он не был. Поедешь — тот и в самом деле заставит в мечети встать на колени…
Вторая глава
Какие только предания ни услышишь в Вармазейке! Прежде, если верить одному из них, земля была щедрой — один лишь чернозем, богатый червями. А где черви — там и грачи. Шел человек за сохой по разрезанной, как ржаная буханка, земле, топтал грачей лаптями. Те от обиды стали выводить птенцов с белыми клювами. Чтобы на зерноземе птиц было видно и не путали их с землей.
И зерном славилось село. Не зря старожилы говорили: сеяли, мол, наши деды чертополох — рожь вырастала, бросали в поле горсточку проса — урожай был такой, что семь кадок наполняли.
Много всего было в старину. По лесам лешие бродили, огромные, ростом с двух сосен. И Сура несла свои воды не жалеючи. А глубина, глубина была какой! К длинной веревке привязывали камень, опускали ее и недоставали дна. Две веревки требовалось! Это сейчас местами в сапогах пройдешь.
Лешие перевелись, река обмелела. Люди как ни обрабатывают поля — все то же собирают: полмеры ржи, полмеры картошки. Мучила, мучила земля сама себя, все старалась выручить хлебопашцев, да как выручишь — от усталости сама стала желтеть.
Куда ни глянешь — везде глина да песок. Поэтому и Сура обижается: возьмет и неожиданно свернется в клубочек, будто губы воротит. Поднимет мутную воду, она такая ржавая — на кровавую жижу похожа.