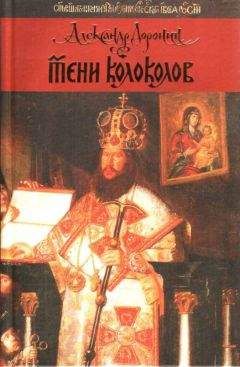Александр Доронин - Перепелка — птица полевая
— Почему оставил? Этот кран он пригнал с Кочелая на один день. Вот колокол поднимет, потом снова отгонит.
— Дядя Миколь что наверху делает?
— Закрепить колокол, видать, хочет, — ответил Валера и притих. Что другое скажешь — сам впервые видит такое.
Миколь высунул наружу голову — шапка большекрылой вороной полетела вниз.
Внизу кричали:
— Держись, Микитич, так и сам свалишься!
— Смотри, на небе не оставайся!
— Инешке там не виден?..
Нарваткин, улыбаясь, смотрел вниз и сам не выдержал, засмеялся:
— Здесь меня доброе слово батюшки сохранит. Не ошибся, отец Гавриил?
Кочелаевский рыжий священник, который беседовал с настоятелем вармазейской церкви, подошел к крану, прошептал что-то Бодонь Илько, а тот словно всю жизнь этого ждал.
Кран заработал, и перевернутой большой рюмкой медный колокол поднялся над головами. Не колокол плыл по воздуху — большое солнце!
Миколь Нарваткин схватил его двумя руками, стал тянуть в колокольню, да сил не хватало. И он крикнул вниз:
— Помощники нужны!
Витя Пичинкин и Игорь Буйнов хотели пройти к лестнице, которая вела наверх, но батюшка Вадим встал перед ними и сказал:
— Сначала, антихристы, помолитесь на коленях. В святой храм без благословения не пущу!
Игорь вернулся на свое место, Пичинкин не стал высомерничать — упал на колени около занесенного снегом крыльца и перекрестился.
— Пусть Верепаз всегда с тобой будет! — сказал батюшка и открыл церковь.
Долго Миколь с Витей возились около колокола. Наконец-то он был закреплен на колокольне, и Пичинки слез.
Куторкин не выдержал и крикнул:
— Как там, Миколь Никитич, скоро начнешь?!
Нарваткин вновь высунул голову и ответил:
— Слушайте, друзья! У кого есть грехи, тот пусть уходит.
Казань Эмель беседовал с внуками и этих слов не слышал. И здесь он вспомнил…
— Ой, ребятки, я совсем без памяти! — затряслись у него ноги.
— Что случилось, дед? — удивился Валера.
— Как что, перед уходом затопил печку, воду хотел погреть и совсем про это забыл… Как бы пожара не было! — И побежал к конюшне.
Нарваткин, видя это, произнес:
— Во-он, один уже «отпустил» свои гре-хи!..
Бум-бом, бум-бом! — застонал колокол, содрогая округу.
Не небо простиралось над людьми — плывущие звонкие облака. Большой отарой овец они спешили на запад, словно боялись остановить красивый звон…
Сначала от него село вздрогнуло, потом окна просветлели. Или это виднелось так людям: не колокол, а солнце так их осветило? Солнце, конечно! Но не только оно, но и колокол чувствовал себя над всеми главенствующим…
* * *С Вармазейки Борисов вернулся в полночь. Не успел раздеться, как в дверь постучали. Открыл — у порога стояла соседка. Она спешила, будто кто-то гнался за ней и начала рассказывать: Галю положили в больницу — видимо, рожать собралась. Юрий Алексеевич не стал расспрашивать, кто и когда отвез. Он уже хотел идти навестить жену, но соседка остановила: в это время кто пустит, да и какая от него помощь?..
После ее ухода Юрий Алексеевич выпил чаю и прилег на диван. Как ни старался уснуть, сон не шел. Он смотрел на темный потолок и думал о жене. В последнее время характер Гали очень изменился. Сейчас она не обижалась, как раньше, на то, почему он с работы приходит поздно и рано уходит из дома. Весь район у него в руках. За всё надо отвечать. За любое дело сначала сам берись, потом другие за тобой потянутся. Чем еще он был удивлен — жена не вспоминала о беременности. Это сам заметил, когда однажды за завтраком увидел ее лицо в пятнах. И вот Галя в больнице…
Юрий Алексеевич прилег на диван и стал читать. Попался ему слабый роман, где была описана жизнь одной сельской семьи. Герои — муж и жена — каждое утро, целуясь, встречают. Целуясь, ночи проводят. Сказка, а не жизнь!
Отложив книгу, открыл форточку. На улице все вьюжило. «К весне всегда так бывает», — мелькнуло в голове у Борисова. И вспомнилось ему сегодняшнее совещание, которое провели в вармазейском колхозе. Здесь будто иголки вонзились ему в грудь. Это как же так: большое село, а работать некому, фермеров не находят? Боятся трудностей? Нет, люди там любят трудиться. Один Варакин что стоит: с лошадиную голову свеклу в прошлом году вырастил. Почему бы Бодонь Илько, брату жены, поле не взять, сил не хватит? За рулем, конечно, легче, да и руки не грязнеют. А ведь они — не калачи, вместо хлеба их не подашь на стол. Земля пачкает руки, от нее устаешь, и поясница ноет, но взамен земля отдает сторицей за труд, душу вдохновляет…
Думал Борисов, а у самого в груди щемило. Здесь еще капризный ветер мысли тревожил. Тот, видимо, не остановится, будто зимнюю ночь боится потерять. Зимнюю ночь не измеришь километрами, она длиннее длинного, да что поделаешь — раньше времени солнце не поднимется…
К утру поземка, наконец-то, перестала кружить, и улица легко вздохнула, открылась всем своим пространством.
Юрий Алексеевич направился в больницу, хоть шел пятый час и Кочелай спал: ни людских голосов, ни лая собак. С большой дороги он спустился к березняку и пошел по нему по вьющейся тропке.
Поблизости виднелась больничная водокачка. Одним окном она смотрела на лес, другим — на село. Окна были грустными-грустными, будто о чем-то горевали.
Больничный двухэтажный дом, который подняли этим летом, опоясан высоким забором. За ним стояли березы. И они, шурша, пели только лишь себе понятные песни.
Юрий Алексеевич зашел в приемную, стал ждать. И вот в левосторонней палате открылась дверь и оттуда вышла в белом халате девушка. Высокая, тонконогая. Увидела Борисова, тигрицей накинулась:
— Ой, вы как сюда попали? Без разрешения, в такую рань? — Протерла мутные после сна глаза, видимо, только встала, и снова за свое: — Сюда мужчин не пускают, здесь…
— Я пришел навестить Борисову. Ждал, ждал утра и не выдержал. — И он виновато стал говорить, что беспокоится за здоровье жены.
— А-а, вы к Галине Петровне?.. У ней пока не начались… Видимо, подняла что-нибудь тяжелое, вот и привезли раньше времени. — Девушка зашла в третью палату, но вскоре снова вышла. — Галина Петровна спит. Вы идите. Если будет нужно, мы сами позвоним…
Борисов, вспоминал, вспоминал, что тяжелое подняла жена в последние дни, но ничего такого не смог припомнить. И он понял: девушка, скорее всего, практикантка. С сожалением махнул рукой и пошел домой. Через два часа, уже из своего кабинета, сам позвонил в больницу. Трубку взяла санитарка. Пойдет, сказала, кого-нибудь спросит. «Велели вам передать, — потом, заикаясь, стала говорить она, — пока еще не начались роды… Ждите…» Борисов попросил к телефону врача. Та ему сказала:
— Ничего пока нет…
— Але, але! Как нет? На днях, на днях должно быть! — кричал Борисов в трубку.
Пи-пи-пи! — раздалось в ушах. Сломя голову он побежал в больницу. Когда зашел в ту же приемную, ему загородила дорогу старая женщина.
— Тихо, тихо… Около нее врачи, не переживайте…
В это время раздался пронзительный крик.
Видать, кто-то родила…
— Моя? — растерялся Юрий Алексеевич.
— Твоя, твоя. Сына! На четыре кило!..
— Как четыре?!.
— Вот жена привезет его домой и взвесите, — женщина скривила губы, будто этим показывала: эка, какие вы, мужчины, недотепы. И добавила: — Потише говорите, сюда не разрешают пускать…
Борисов вышел на крыльцо и, прижавшись спиной к входной двери, легко вздохнул: «Сынок у меня есть, сынок!..»
На улице была теплынь. Белоствольные березы о чем-то счастливо шептались. О весне? Придет весна, как не придет! Вон, небо ребенком улыбается, даже ветер смягчился.
«Весна придет, и новые заботы вольются в твою жизнь», — будто кто-то прошептал в ухо Юрию Алексеевичу. «Вольются, как не вольются, поэтому она и приходит на землю. Только бы как от дел не отстать», — подумал Борисов. «Не от-ста-нешь, не отста-нешь, не отста-нешь», — будто в такт успокаивали его широкие шаги.
Когда он услышал весть о рождении сына, сердце у него забилось так, словно птицей готово было выпорхнуть из груди. Радовался Борисов и в то же время переживал о будущих днях: что хорошего они принесут, что плохого?..
Ой, мать-кормилица, да что об этом раньше времени думать — жизнь сама покажет, на что ты способен, чего ты стоишь. Жизнь очень часто похожа на птицу… У каждого она — своя. Нам дорожить своей землей, родными до боли полями, беречь свою совесть. Жизнь сельчан похожа на перепелку. А перепелка — птица особенная, она хлеба прославляет, не может жить без ржаного поля… А где хлеб, там и песни! Кочкодыкесь — паксянь нармунь!24
1988 г.