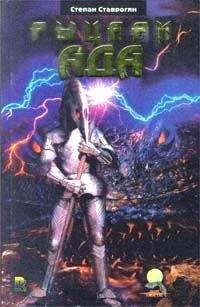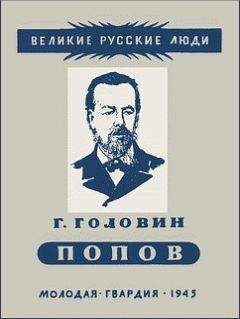Глеб Горбовский - Шествие. Записки пациента.
— Да нет же, я о другом. Посмотри на меня: видишь? Живой, здоровый. «Чистенький, трезвенький»— твои слова. А ведь я с того света вернулся, Вова.
— С того света не отпускают. Разве что в урне. В виде пепла. Или, может, ты из Америки прямиком? Тоже ведь другой свет. Тогда почему в таком зачуханном виде? В пирожке почему?
— Веселый ты человек, Чугунный. На краю, можно сказать, стоишь, а юмора не теряешь. И договорить не даешь. Я тебя не с чувихой, я тебя с необыкновенным одним мужиком познакомить хочу, с Геннадием Авдеевичем Чичко! Вот с кем…
— Чичко? Знакомое что-то… Композитор, что ли? На кой он мне хрен сдался? Мне своей музыки хватает: не голова — барабан натуральный. Короче — необходимо освежиться.
С этими словами Чугунный кое-как поднялся со скамьи, а затем, проваливаясь и кособочась на ходу, заспешил к автоматам с газировкой, что сплоченной шеренгой стояли на выходе из сада. Возвратился Володя с двумя гранеными стаканами, вставленными один в другой. Нес он их до скамейки Мценского тайком, пряча под затхлой курточкой, при этом воровато озирался по сторонам.
— Держи, — протянул Мценскому нижний стакан. В верхнем стакане плескалось немного подсиропленной желтой газировки. — Для запива, — пояснил Чугунный.
— Нет, нет, что ты, Володя?! — отпрянул Мценский, скользнув по скамье юзом и вывозив пальто в птичьей известке. — С этим покончено раз и… От одного вида душа вспотела! Так что и не предлагай. Иначе уйду сейчас же.
Чугунный молча отвинтил белую пластмассовую пробку, поддел ногтем из горлышка страхующую пластиковую затычку, начал вытряхивать из синего флакона в порожний стакан запашистую жидкость.
— Пей! — протянул Чугунный Мценскому.
— И не подумаю.
— А я говорю — пей! — раскорячил Володя в бесноватой гримасе дышащий жарким, гнилым нутром рот. — Гада угощают, а он нос воротит. Пей, грю… педагог, пала!
— А я вот милицию позову.
— Не позовешь: заметут вместе со мной. Пей, грю, если свобода дорога!
— Понимаешь…
— Не понимаю! Пей, пас-с-ску-уда!
— Да не злись ты на меня, Володя… Не стану я пить.
— Пе-ей! — зазвенел Чугунный, истерически истончив голос до свистящего фальцета. — Не будешь пить — оболью гада и подожгу! Не вер-ришь?!
На ближайших скамейках забеспокоились старички и старушки. Птицы, кружившие над деревьями и отдыхавшие на ветвях, заслышав пронзительный вопль, снялись и, дав круг над оглашенным садом, перелетели на старые молчаливые липы Большого проспекта.
Милиционера Мценский заприметил еще издали, когда тот, поскрипывая песком, передвигался по одной из дорожек сада, и вдруг, заслышав истошное Володино «Пей!», — заметался, завертел головой, прицеливаясь взглядом к их скамейке.
Мценский наблюдал приближение милиционера завороженно, будто парализованная страхом мышь, оцепеневшая у входа в змеиную пасть.
Пришлось лихорадочно вспоминать подходящие к случаю слова, и лучше — ласковые, вкрадчивые. Главное — не лезть в бутылку. Милиционерам нравится, когда с ними — вежливо. Мценский догадывался, что придется не столько оправдываться и защищаться, сколько расплачиваться. Денег у него в наличии имелось на все про все красная десятка, которую в момент расставания в больничном вестибюле одолжил ему до лучших времен Геннадий Авдеевич, добрая душа. Начинать новую жизнь с конфликта не хотелось. Подставлять под удар одного Володю Чугунного, откреститься от него напрочь — тоже как бы несправедливо будет: на одной скамье сидят, одним воздухом дышат. Прежде-то, до болезни, он и глазом не моргнул бы — отрекся от парфюмерщика! Апостол Петр Христа предал, причем трижды подряд. А ведь знали друг друга прекрасно, не шапочное, как у них с Чугунным, было знакомство.
И тут Мценский краем уха расслышал позвякивание стекла: прямо под ноги, на песчаную дорожку, покатились из рук Чугунного граненые стаканчики. Туда же рухнул и синий флакон. Вот те на… Испугаться до такой унизительной степени! Не ожидал Мценский от прожженного Чугунного подобной, весьма стремительной паники, такого расслабляющего мандража.
С трудом оторвав взгляд от приближающегося милиционера, Викентий Валентинович заставил себя посмотреть на Чугунного. А тот сидел, растекшийся по скамье, руки веревочно изогнуты, голова запрокинута на деревянную реечную спинку, хохочущий черный рот распахнут настежь. И — ни звука из вздыбленной груди.
«Какой странный смех, — насторожился Мценский. — Какой долгий, словно за что-то зацепившийся смех. Заторможенный, застрявший. Отчего бы это?» И вдруг понял: оттого что припадок! Чугунному плохо.
В следующее мгновение Викентий Валентинович ринулся на помощь несчастному Володе, благоухающему расплесканным снадобьем. Не долго думая, решил устроить Володю поудобнее: обхватив отключенного «осветителя» руками ниже подмышек, бережно положил его на скамью, сперва туловище «расстелил», затем туда же забросил и ноги Чугунного. Быстренько снял с себя пальто, свернул в укладку, подсунул под голову бедолаге.
— Здрасте! Старшина милиции Нефедов. Что здесь происходит? Та-ак, ясненько! Распиваем в местах общего пользования…
— Погодите вы, старшина! Человеку плохо!
— Человеку… — нервно усмехнулся румяный, крутоплечий старшина, принадлежавший к той именно категории людей, что большую часть жизни проводят на открытом воздухе. — Опять Чугунный выступает. А вы кто такой при нем? — обратился он к Викентию Валентиновичу, настороженно потягивая воздух широким трепетным носом. — Одэ-эко-лон? Штраф платить будем?
— Будем. Пять рублей. У меня всего десять. Пять вам, пять — мне. Квитанции не надо. К тому же не пил я ни грамма. И вообще из больницы только что… освободился. Есть справочка.
— Об освобождении?
— О лечении. И паспорт имеется. Вот, прошу убедиться, — протянул Мценский тугоплечему сержанту документы. — Если вас не затруднит, скажите, сколько сейчас времени? Для ориентировки.
Сержант с полминуты раздумывал, отвечать ему на вопрос или же проигнорировать оный, затем, не сверяясь с часами, сообщил:
— Тринадцать пятнадцать.
— Спасибо. Значит, два с половиной часа тому назад я вышел из больницы, побродил по Васильевскому острову, прочитал вот эти вот газеты, которые расстелил на скамейке. Затем ко мне подошел вот этот вот несчастный… ныне спящий человек и сказал: «Здравствуй, Кент!» Хотя зовут меня Викентий Валентинович.
— Давно с Чугунным знакомы?
— Трудно вспомнить… Очень давно. И — с длительным перерывом в общении.
— Как вас понимать?
— Со слов Чугунова — якобы лечились вместе в одном медицинском заведении, пациентами были.
— А с ваших слов?
— Это мой брат. Родной. По несчастью.
— Так родной, или по несчастью? Чугунов он или тоже… э-э… Мценский?
Сержант полистал паспорт Мценского. Развернул справочку. Подумал о чем-то своем, милицейском. И вдруг, переключив потрескивавшую на приёме нагрудную рацию, вызвал дежурного.
— Нефедов на проводе. Да здесь я, на набережной, в Соловьевском садике. Один тут в отключке на лавочке. Да знаешь ты его: Чугунный! Да, опять разлегся. Пусть его ребята подберут.
— Ладненько. Сейчас я Бобкова пошукаю… Бобков где-то возле Шмидта курсирует!
— Добро, жду, — буркнул Нефедов дежурному, затем, аккуратно сложив медицинскую справочку Викентия Валентиновича, сунул ее на прежнее место, под прозрачный целлофан паспортной обложки. И нерешительно протянул документы Мценскому.
Мценский брать документы из рук сержанта не спешил, отнесся к милостивому жесту Нефедова сдержанно, чем приятно удивил милиционера, и тогда тот еще более настойчиво обратился к Викентию Валентиновичу:
— Возьмите документы!
Мценский взял. И вдруг спохватился: торопливо треща целлофаном, извлек из того же паспорта десятирублевку, протянул Нефедову.
— Если можно, сдачу рублями, — при этом Мценский бесстрашно улыбнулся сержанту.
— А если четвертными? — сдвинул брови Нефедов, притворно мрачнея. — Забирайте и уходите. Тоже мне пирожок в июне месяце! — обратил квартальный внимание на зимнюю шапку Мценского, словно только теперь обнаружил ее на голове нарушителя. — Пальто ваше? Забирайте. Видел я, как подстилали…
Из больницы люди домой бегом бегут, а не по лавочкам рассиживаются.
Мценский осторожно потянул из-под Чугунного пальто. Голова Володи, ощерившаяся в длительном беззвучном смехе, глухо стукнулась о скамеечные рейки. И тут Мценского осенило: а Чугунный-то… мертв.
5
Ночью спать никто не ложился. Люди продолжали идти. Да и куда было ложиться? Под ноги толпе? Сомнут, растопчут. К тому же спать не хотелось. Вовсе. Отпала эта необходимость. Люди шли в ночь с открытыми глазами. Даже те из жутких псевдо-слепцов, которые днем передвигались, сомкнув веки, на ощупь, теперь, с наступлением темноты, распечатали порочные взоры и жадно пили зрачками пронизанный мириадами зрений сумрак. Именно сумрак, а не беспросветную тьму. Свет множества глаз, вливаясь в ночь, делал темноту жиже, прозрачнее.