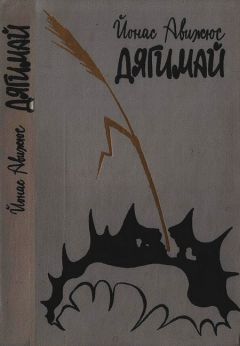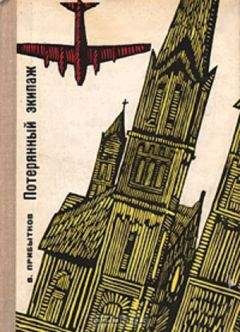Йонас Авижюс - Потерянный кров
— Вздор! Что вы там со своим уездным начальником? — грубо обрывает Липкус, которого раздражает слабость Туменаса — тот любит похвастаться своими связями. — Рано еще немцам яму копать.
— Ты что, думаешь, они войну выиграют? — обижается Туменас. — Против всего мира?
— На этот вопрос пусть ответит история, Альгис.
— Правда, коллеги. Неужели у трезво мыслящего человека могут возникнуть сомнения, кто победит в этой войне? — Туменас растерян и возмущен. — Я уже говорил вам о сегодняшнем визите человека из Каунаса. Ответственное лицо, поддерживает связь с верхами самоуправления. Известно, что немцы предложили генералу Плехавичюсу создать литовскую армию. Это немаловажный факт, господа. Генерал Плехавичюс надеется, что немцы предоставят Литве независимость. Тогда новое правительство республики объявит всеобщую мобилизацию и наши парни плечом к плечу с немцами против большевиков…
— Не очень-то соблазнительная перспектива, к чертовой матери! — ежится Гердайтис.
Дирвонайте. Юозас…
Липкус. Если не дали независимости сразу, как только выперли русских, то пускай теперь Гитлер сунет ее в свою австрийскую задницу.
Дирвонайте. Господа, не забывайте, что среди вас — женщина.
Липкус. Пускай сунет и подотрется.
Дирвонайте. Хам!
Туменас. Но это — гипотеза, коллеги. Человек из Каунаса полагает, что независимость у немцев сейчас не выпросишь — они слепо верят в благополучный исход войны. И тогда, ясное дело, видеть им литовскую армию на фронте, как свои уши, вот какие пироги.
— Странно, — смеется Гедиминас. — Не один килограмм табаку выкурили вы в этой комнате, сражаясь за независимость, а как погляжу, не очень-то обрадовались бы, вдруг получив ее.
Все недовольно уставились на Гедиминаса.
— Ваш тон неуместен, Гедиминас! — Дирвонайте оскорблена.
— Чего желать от деревни? — подхватывает Липкус. — Для мужика всегда на первом месте были свиньи да лен.
— Любопытно бы знать, Гедиминас, много ли сам своротил для блага родины? — наклоняется к нему Гердайтис. — Какие горы, если будет позволено спросить?
— Я не сражаюсь с ветряными мельницами, Юозас.
— Побольше демократии, коллеги, — пытается примирить стороны хозяин. — Гедиминас не согласен с нашей позицией, но это еще не значит, что он, если родина позовет, не исполнит своего долга.
— Кто в этом сомневается? — ухмыльнулся Липкус. — Господин Джюгас, много ли откормил в этом году свиней для немцев? Как рожь уродилась? Виноват, дал маху: забыл, что ты отказал рейху в поставках! Патриотический жест. Поздравляю с поднятием флага против оккупантов.
— Благодарю, Антанас, — мягко отвечает Гедиминас, ядовито улыбаясь сквозь облако дыма Липкусу. — Я сделал лишь то, что считал своим долгом.
— Много, отчаянно много ты сделал, — не отстает Липкус. — Ведь твои свиньи и пшеница предназначались на стол самого Гитлера. Адольф ждет их не дождется и который день голодает. Надо надеяться, вскоре главный штаб фюрера опубликует сводку, что старик с голодухи загнулся.
— Он не загнется ни из-за моих поставок, ни из-за ваших разговоров, господин Липкус. Мы с вами бьем по заднице, а есть люди, которые метят в голову.
— Знаком с такими? — Лицо Липкуса действительно приобретает цвет лимона.
— Для вас новость, что в Вентском лесу стреляют?
— О-ох! — вскакивает Дирвонайте. — Он о бандитах…
Гердайтис чмокает губами, раскачиваясь между Липкусом и Гедиминасом, словно маятник. Черт возьми! Этого еще не хватало, чтоб им предложили уходить в лес к красным!
— Я не предлагаю, Юозас, — защищается Гедиминас. — Я только говорю, что эта словесная война мне кажется смешной.
Липкус извлекает из внутреннего кармана пиджака подпольную газету — каждый получил по экземпляру от Туменаса, и, размахивая ею перед носом Гедиминаса, говорит:
— Написанное здесь в течение недели узнает вся школа. Мы в постоянном контакте со школьной молодежью, Гедиминас. Если вы видите нас сегодня у Туменаса, это еще не означает, что завтра вечером каждый из нас не будет сидеть у себя дома в окружении учеников, которые понимают нас лучше, чем вы. Наше живое патриотическое слово через учеников гимназии доходит до их родителей, братьев, сестер, распространяется в деревне и городе, готовя нацию к тяжким испытаниям. Вы корчите героя со своими поставками. Плевать мне на них!
Дирвонайте. Антанас…
Липкус. Плюю я на ваши поставки, плюнуть и растереть, господин Джюгас. Стоило нам только захотеть, стоило нажать кнопку через своих учеников, и большая часть села не дала бы ни килограмма зерна и мяса. Но мы этого не сделали, — не в наших интересах раздражать немцев, чтоб они пролили еще больше литовской крови. Пусть этим занимаются те, что метят, как вы говорите, Гитлеру в голову, а на деле косят своих.
— Вот не думал, что вы такой авторитет для литовской нации, — иронизирует Гедиминас.
— Почему — он? — ловит его Дирвонайте. — Учитель! Учитель и ксендз были и остались главными авторитетами на нашем селе.
Гедиминас молчит. Да, с этим спорить не станешь.
— Когда печать Кубилюнаса стала призывать молодежь вступать добровольцами в вермахт, многие ученики старших классов подняли было крылья, но мы их с ходу подрезали, — вставляет Гердайтис.
— Да, потеряли бы несколько десятков парней, а сложили головы только двое, — сверкает рот Липкуса. — Они все, вот как сегодня мы, сидели за столом. У Туменаса, Гердайтиса, у Юрате, у меня. «Ну как, господин учитель?» Стоило только рявкнуть: «О чем разговор! Иди, раз самоуправление призывает. Всыпь большевикам!» И пошли бы. Но мы — нет! И те и другие — чужие для нас. Побереги голову, — сложишь ее, когда понадобится, за родную Литву.
— Значит, отложили исполнение смертного приговора своим парням, — пытается сопротивляться Гедиминас, чувствуя, что сдается.
Дирвонайте. Жуткий цинизм!
Гердайтис. Нет — кокетничанье своей оригинальностью.
Туменас. Иногда ты невыносим, Гедиминас.
Гедиминас. Почему, Альгис? Ведь вы так этих детей зарядили, что достаточно нажать кнопку, применяя выражение господина Липкуса, и все они полетят в цель.
Дирвонайте. Для вас нет ничего святого, Гедиминас.
Гедиминас. Кроме человека, Юрате.
Гердайтис. Начинаю верить, что все поэты чокнутые.
Липкус разевает рот, словно рыба на берегу. Зеленые глаза буравят Гедиминаса с такой злобой, что по спине бегут мурашки. Наконец — смех. Первый раз за этот вечер он слышит смех Липкуса. Сиплый, с тарахтением. Как будто телега едет по мосту.
— Господа, полюбуйтесь на этого человека. — Липкус протягивает руку через стол, тычет пальцем в Гедиминаса, едва не касаясь груди. — Полюбуйтесь на это ископаемое. Это самое совершенное порождение человечества. Гений! Для него нет ничего святого, кроме человека, а когда мы спасли для нации пятьдесят молодых жизней, он, этот светоч гуманизма, только смеется над нами. Да, да, здесь, за этим столом, мы выкурили немало табаку, как вы изволили выразиться. А что ваша милость сделала для блага вашего человека? Сбежала к папаше свиней кормить, потому что в деревне спокойнее, безопаснее. Пускай такие дураки, как Туменас со своей братией, борются за нашу молодежь с немцами и их прихвостнями, а если попадутся, пускай едут в рейх, пахать поля бауэров, или в трудовые лагеря. Не знаю, чем кончится дело с этими смехотворными поставками, господин Гедиминас, но я лично плакать не стану, если вам прищемят хвост. В одиночку хотели смеяться — в одиночку и заплачете. Нация склоняет свои знамена лишь перед теми, кто гибнет за нее и вместе с ней. Сторонние наблюдатели, да еще такие, которые издеваются над нацией в час испытаний, ей не нужны… ………………………………………………………………..
Колокола Марюса… С другой колокольни, конечно, но в нем, в этом звоне, то же безжалостное осуждение, которое гремело в избушке у леса. «В одиночку хотели смеяться, в одиночку и заплачете…» Марюс сказал это чуть иначе: «Держись обеими руками за свой флаг, то есть за себя, пока фрицы не уложат тебя в могилку…» И тут и там за столом сидело пятеро, и были две точки зрения. И его точка зрения показалась смешной. Одни презрительно повернулись спиной, ушли, даже не попрощавшись, другие же совали руки, благодарили за гостинцы, но во всем их поведении чувствовалось такое превосходство, что Гедиминас, подавленный собственным ничтожеством, не скоро пришел в себя.
«Надо было кивать, глотать чужой табачный дым и молчать. Был ли смысл еще выше поднимать стену, которая и так уже отделяет меня от вчерашних друзей? Липкус справедливо бросил мне в лицо: и впрямь, что же я сделал „для блага моего человека“? Помог Пуплесене и Культе. А все другое — слова, слова. Но даже этот убогий аргумент я не вправе был использовать».