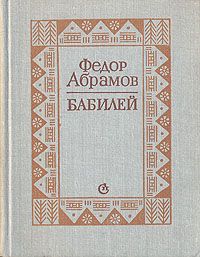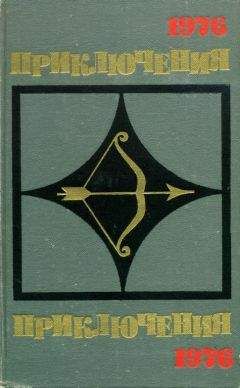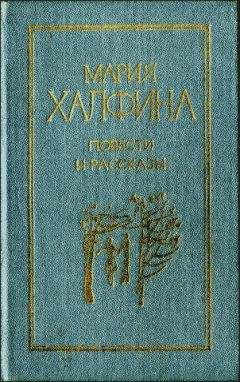Олесь Гончар - Повести и рассказы
И вновь она видела угодливо-заискивающую суету егеря, снова чувствовала жгучий стыд за ту патоку в его голосе, которая так не шла к бравой фигуре этого все ж таки молодца, красавца степняка…
Что и говорить, не рыцарем достоинства и независимости явился он перед ней. Совсем не таким ты его себе вымечтала, не таким представляла! Будто обокрал тебя в чем-то, горько, глубоко обидел…
И внезапно — как удар по нервам — она вся содрогнулась. И линия горизонта будто содрогнулась: выстрел! Где-то там, в глубине косы, прозвучал выстрел.
К вечеру, когда компания вернулась к дому Прасковьи Федоровны, у Танцюры что-то большое белело под мышкой.
Лебедь-шипун белел.
Тяжеленный, с белым пухом, с обвисшими метровыми крыльями, с метровыми палками ног.
— Получайте, Прасковья Федоровна, на ужин, — с подчеркнутой веселостью, которая Ольге показалась напускной, обратился Танцюра к хозяйке.
Но та не приняла дара. Выпрямилась оскорбленно:
— Эта птица святая… У нас ее не едят.
Танцюра попытался было передать лебедя жене другого сторожа, приехавшей сегодня с детьми и мужем погостить, но и та отказалась:
— Вам же сказали — птица святая. Не едят такую у нас. — И прижала к себе детей. Дети — две девочки и мальчик — только сопели, неприязненно поглядывая из-под материнской руки на протез Танцюры, упорно топтавшийся возле них.
Никто не захотел взять лебедя, отказались под тем или иным предлогом все. Кандидат наук даже напраслину на себя возвел, сказав, что он вегетарианец, хотя не далее как за обедом кролятину уплетал; уклонился от подарка и агроном, пошутив, что участковый милиционер штраф ему припечет, не поверит никаким оправданиям.
Один лишь егерь увивался вокруг Танцюры, утешал:
— Домой повезете, гостинец первый сорт будет!..
Тут уж Ольга просто возненавидела егеря, возненавидела и ту вспышку своего слепого чувства к нему, с ужасом подумала, что этот бесхребетник, подхалим мог стать избранником ее сердца.
Брошен был лебедь в машину, и ружье сверху на него было брошено небрежно, как ненужный хлам.
Вечером перед отъездом, уже усевшись в машину, Танцюра подозвал Ольгу:
— Осуждаешь? Грех большой я содеял? — спросил с недоброй усмешкой. — План недовыполнишь, одним меньше окольцуешь?
Ольга молча кусала губы. Глаза стали маленькие, злые.
— Может, донести на меня хочешь?
— Нет. Этим не занимаюсь.
— А чего же надулась?
— Чего? Знать хочу, неужели вы так уверовали в свое право — бить? В право делать то, что запрещено другим? Почему вы считаете, что вам вольно переступать закон?
— Все? Высказалась?
— Почему вы ведете себя так, как будто вы последний на этой земле? А ведь вы не последний! И после вас будут!
Холодным стал его взгляд. И лицо в сумерках было серым, как пепел.
— А может, все мы последние? Или ты, такая умная… надеешься повторить цикл? Две жизни собираешься прожить?
— Вы циник. И ваши рассуждения циничны. И отвратительна мне ваша философия браконьерства!
— Погоди, жаль тебе этого черногуза? — Он умышленно называл черногузом лебедя, видимо, чтобы оскорбительнее было. — На! Возьми! — И поднял из полутьмы машины кипу того белого, тяжелого, прямо за шею поднял. — А то кролей поразводили, как в Австралии, норами все перерыли. Бери, бери, не сердись. Мясо у него сладкое.
Широкое скуластое лицо девушки горело от возмущения.
— Эта птица… Она и для меня святая. А где ваши святыни? Или вы уже освободили от них вашу жизнь?
— Что ты знаешь о нашей жизни? — вздохнул Танцюра. — Откуда тебе знать, как она нам ребра ломала и как нынче ишачит наш брат… Кого еще так выматывает работа?.. Другие на рыбалку, в театр, а мы до ночи… Хоть и с температурой… Хоть и ноют раны… До полета не дотянув, инфаркты хватаем! — И сердито стукнул дверцей.
До поздней ночи ходила Ольга по косе. Небо было в звездах, небосклон растаял, линия горизонта исчезла… И впрямь как на краю планеты. Дальше, за небосклоном, уже тьма и безвестность. И как бы на краю души человеческой стоишь — души донынешней, изученной, знакомой. А дальше что? На что годна? К чему устремится? Какие запасы добра и зла скрыты в ее арсенале? И почему, оказавшись на грани зла, человек так легко и безболезненно эту грань переступает? «Абстрактно, — слышит она чье-то возражение. — Глубокая философия на мелком месте!» Но это говорите вы, те, кто не видел сегодня его ружья, его самоуверенности и его решимости (как он тем протезом землю вывертывал, ввинчивал в нее каждый свой шаг, каждый свой притоп!).
Недели через две, опять проездом, оказалось здесь все то же общество. Танцюра, непривычно добрый какой-то, чрезмерно разговорчивый, сообщил женам сторожей и словно бы еще кому-то:
— Жена чуть было из дому не выгнала с той добычей. Только увидела моего черногуза — и в крик! Вот женщины, всюду одинаковы… Как будто с вами сговорилась: «Зачем в квартиру принес? Это же птица святая!» Даже соседи отказались. Еле помощнику своему навязал. Человек темный, принял за гуся…
Всем было неловко его слушать, но Танцюра как будто и не замечал общей неловкости, вновь и вновь возвращался к теме «черногуза», да что подстрелил он его почти случайно, да что он, горе-охотник, раскаивается теперь, навсегда зарекается бить… Суровые, прокаленные солнцем люди слушали его понурившись, слушали, а верят они ему или нет — трудно было по их замкнутости отгадать.
1966
ПОД ДАЛЕКИМИ СОСНАМИ
Несколько лет подряд получаю письма от неизвестного мне человека. Письма не рассчитаны на ответ: ни на одном из них нет обратного адреса. По штемпелям на конвертах можно лишь приблизительно догадаться, что идут они откуда-то из краев шевченковских.
Пишет женщина. Рассказывает о буднях своих, о том, чем была озабочена, что подумала, что поразило ее сегодня. Порой о книжке, только что прочитанной, иной раз о чем-то услышанном по радио, навеянном песней… Временами делится настроением, на кого-то поропщет или во всех подробностях расскажет, как собирала в лесу на топливо хворост да сосновые шишки, а они сырые, только шипят в печи, гореть не хотят. В ином письме будет целый эпос о брате-пьянице, о его очередном посещении (я этого брата уже хорошо себе представляю): опять приполз чуть не на карачках, устроил дебош ночной, требовал трешку на похмелье. Если откажешь — бранится: ты скупая, ты тронутая, ты свихнулась еще тогда, в своем погребе!.. А какая же я тронутая, когда вижу, как звереет человек, вот так набравшись где-то в чайной… Когда заходит речь на эту тему, тут уж адресатка не выбирает слов, ей не до стиля — чувствуется, что человек шалеет в страсти своего возмущения, ему крайне необходимо излить кому-то на бумаге свою душу, свои невзгоды житейские.
Как можно понять из ее писем, по специальности она вышивальщица, и, видно, неплохая, так как умением ее дорожат, приглашают туда и сюда, вот и сейчас предлагают идти в ателье при сахарном заводе. Еще не решила, может, и пойдет, хотя вряд ли долго удержится там — неуживчивый у нее характер (недостатков своих она не скрывает). Чувствуется, что вышивание приносит ей истинную отраду, ее утешает, что работа кому-то понравилась, письма пестрят заботами о нитках да узорах, хотя и другой работы она не чурается: из тех, видно, женщин, у которых руки и к иголке и к лопате — ко всему умелые, ко всему привычные. То ездила помогать какой-то бабусе выкопать картошку, то была с женой брата на уборке свеклы…
Штемпеля на конвертах время от времени меняются — где-то бывает, кого-то проведывает, прирабатывает то у тех, то у других родственников, но нрав ее крутой, видимо, дает себя знать, потому что через некоторое время опять как вздох облегчения: вот я наконец и дома, в хатенке своей лесной, тут мне сосны по ночам шумят.
Иногда не пишет подолгу, будто совсем уже исчезла с горизонта, затерялась в человеческом море, потом, глядишь, объявляется из другого места, при новых уже обстоятельствах всплывает ее словно бы и неяркая человеческая судьба. Весенний сезон работала в лесопитомнике — любит высаживать елочки, а там такие подснежники — наисинейшие в свете (в конверт будет при этом вложено несколько расплющенных, присохших к бумаге подснежниковых лепестков).
А то возила брата на лечение — ведь он, — когда не пьет, золотой человек, душа у него очень добрая, и дети славные, а механизатор он такой, что не нахвалятся им, и за войну у него заслуги боевые, но вот беда: губит человека зеленый змий!.. Так что отвезли его, сдали с братниной женой, не знают еще, как будет, а пока что можно дома дух перевести, не опасаясь его дебошей, теперь ей опять ночами только сосны на опушке, как море, шумят.
Иногда присылает стихи. Нет, не для печати, невысокого мнения она о своем стихотворстве, сама знает, что с поэтической техникой она не в ладах. Просто вылилось так, вкрапилось посреди письма: боль какая-то, дымка воспоминаний, грусть-тоска о чем-то… Горькие, скорбные строки в народно-песенной традиции, с калиной, буйным ветром, с рифмами «кровь — любовь» и наоборот… О юности, давно утраченной, о подруге, которой было шестнадцать лет. Мотив подруги всякий раз повторяется, чувствуешь, что человек этот очень ей дорог. Пишет карандашом, торопливо-небрежно, коряво, порой даже наивно, но зато и фальши нет, все проникнуто щемящей достоверностью, все свое, выстраданное… Читаешь и думаешь: как неисчерпаемо горе людское, как многолико оно, в какие подчас причудливые одевается одежды! Полукошмары какие-то. Ночь, стрельба, черные тополя возле сахарного завода… Село, полыхающее в пожарах. И тут, когда речь заходит об этом, замечаешь, как вдруг перемешиваются образы, наступает кризис мысли, воображение барахтается в хаосе каких-то полузатемненных ассоциаций… Мысль судорожно рвется, словно гаснет во вскриках, проклятиях, в недосказанностях боли…