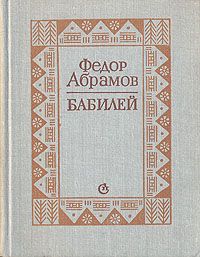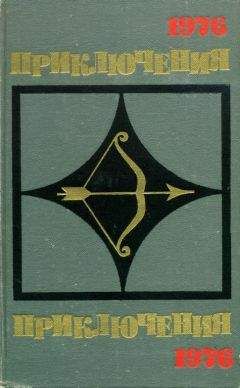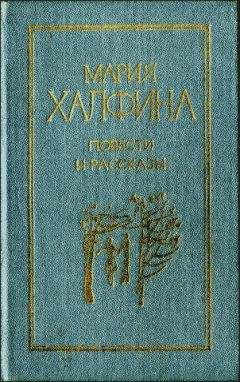Олесь Гончар - Повести и рассказы
— А вы остерегайтесь, — бросил он ей. — Все ходите здесь в костюме Евы… Безлюдно, думаете… Ан нет! Солнце-то светит, далеко видать. И кто-то, может, по ту сторону лимана в камышах залег — и в бинокль… У нас красоту любят!
И опять блеск улыбки, и уже конь вздыбился, выгнулся и, подняв облако пыли, умчал своего всадника, как будто его и не было.
Но ведь он был! И остался с ней и теперь! Потому что, когда пошла она вечером, перед сном, к морю купаться, то не сразу решилась сиять с себя одежду. Все время чувствовала на себе глаза того всадника, которые из-за лимана, из ночных камышей так пристально и жарко на нее глядели. А ночь была ясная. Лунная дорожка стлалась по морю в даль планеты. Что-то русалочье было в этой ночи, весь мир был окутан ее чарами, проникнут ее прозрачностью, околдован светлым царствованием луны над морем и степью. Так хорошо, так упоительно хорошо было, что девушка, даже ощущая на себе тот чужой, посторонний взгляд из камышей, все же стала раздеваться. Медлительно, значаще, как перед брачной ночью, снимала с себя все, осталась лишь в лунный свет одетой… Любуйся, милый! Для тебя этот загар, эта чистота и святость тела…
И вот он уже приблизился, как там, на дороге, когда с «Шипкой» нагнулся, и повеяло от него на девушку горячим духом коня, пота, пыли, духом дороги и ветра…
Через несколько дней приехал и тот, от кого, видимо, зависело распределение сена. Автомашине редко удается пробиться сюда через песчаные барханы, через вязкие солончаки между лиманами, а на этот раз ухитрились пробиться два «газика» и «Волга». Заинтересованных в сене было много, прибыла целая компания руководителей близлежащих и отдаленных степных хозяйств. Купались. Обедали. Опять купались. И все время не переставали спорить о сене, о скоте, которого уже производили столько, что и в хлевах не помещается, того и гляди придется оставлять на зимовку под открытым небом. И не осуждала их Ольга за голый практицизм этих споров, за кипение страстей вокруг столь будничных тем — не так уж трудно ей было постичь, что вопрос о сене, скоте, зимовке, кормах тут самый главный, он для этих людей — сама жизнь, с ним связаны все их радости и горести, от него зависит благополучие семьи и положение хозяина:, а порой даже и сама его людская честь. «А может, это узко? Может, их заедает практицизм? Не докатишься ли и ты когда-нибудь до того, что тебе уже и на лебедей лень будет голову поднять? Они пролетят, а ты в это время будешь равнодушно утаптывать сено, уставившись под ноги…» Так размышляла она, стараясь найти аргументы, оправдывающие этих людей, сложившийся уклад их жизни, ибо все-таки не ты, а они всех снабжают и всех кормят!
Тот, от кого зависело распределение сена, хотя и носил фамилию лихую и веселую — Танцюра, оказался человеком мрачным, был почему-то в унынии, скрипел протезом и глаз не поднимал, когда с каждым здоровался за руку. Был он уже седой, с серым потухшим лицом. Лишь за обедом он слегка оживился, проявил внимание к Ольге, расспрашивал о столице, об учебе, о том, как их министерство распределяло, а когда узнал, с каким перескоком попала она сюда, даже усмехнулся со снисходительным превосходством:
— Жизнь, она научит… Научит калачи с маком есть.
— Ничего себе калач, — заметила жена Михаила Ивановича, которой Ольга представлялась не иначе как жертвой чьего-то произвола. — Мать больна, мать одинока, а дочку вон куда посылают… Был бы дядюшка в министерстве — сюда бы не направили!
— Ничего, — говорил гость, — здесь тоже наша земля, наши люди.
— Мы-то дубленые, привыкшие, а ей тут будет каково? — стояла на своем хозяйка. — Придет зима — хоть волком вой. Дожди, бураны, море до самой хаты добивает… Хозяин мой на баркас да на всю ночь за рыбой, а я дома до утра не могу глаз сомкнуть, мысли всякие: может, его уже и живого нет. Утром прибредет — обледенелый весь, одежа на нем как железо грохочет, с лица черный, и слова не может вымолвить… Вот она какова, наша жизнь!
— Значит, есть где характер закалять, — говорил гость Ольге. — Надеюсь, вы же за этим прибыли? Стальной характер вырабатывать?
«Зачем я приехала — мне знать, не ваша это забота, — молча хмурилась Ольга. — А что стойкость, орлиность души каждому нужна, то это правда, это меня в людях привлекает…»
О чем бы и с кем бы Ольга ни говорила, она все время думала об одном: почему нет его здесь, среди них? Кажется, ведь должен бы быть! Ни разу не видела его после той встречи в степи, и хоть только в мыслях, в игре воображения являлся он ей ночами, лишь в видениях лунных грезилось ей то русалочье что-то, объятия на берегу и пылкие ласки, все же они будто и наяву были, и он становился ей все ближе и роднее…
Танцюра как бы угадал мысли Ольги.
— Где же егерь? Почему не вижу моего друга? Послать за ним мои колеса!
И послали.
После обеда купались; Танцюра купался немного в стороне от остальных, и на влажном песке были видны глубоко впечатанные следы его тяжелого протеза.
После обеда всей гурьбой пошли вдоль косы по берегу, и так было славно, привольно, вольготно, что и спорщики наконец примолкли, взоры людей засветились ласковостью, подернулись хмелем очарованности. Танцюра, светя сединой, решительно ковылял впереди, скрип его протеза и крик чайки были едва ли не единственными звуками в окрестном мире. Танцюре, видно, нравилось быть в роли вожака, он шел повеселевший, ведя за собой всю компанию, протез его увязал уверенно, он его прямо ввинчивал в песок.
Море выплескивает волну за волной, моет и моет косу, простершуюся низко, уходящую в синеву моря. Где-то на острие ее должен быть маяк. Если бы не дымка, белую башню его было бы видно и отсюда, ясным утром она сверкает, белеет на горизонте. Однако и сейчас все вглядывались в марево зноя: не покажется ли, случаем, где-то там, на краю неба, белая башня маяка. Люди суши, а почему-то не оставляло их такое любопытство.
Полно было диких птиц. Клекотали в воздухе, отдыхали стаями на воде, желтели беспомощными птенчиками в бурьянах, где повсюду валялась скорлупа, покинутая одежда тех, что уже повыскакивали на волю. Лебеди белеют далеко в море, намного дальше, чем утром. Их разглядывали в бинокль, прихваченный одним из молодых смотрителей.
Углубились далеко на косу, когда их догнали еще двое: шеф Ольги, ссутулившийся кандидат наук из конторы заповедника, да тот смуглый красавец, чубатый молодец-егерь… Ольгу он как будто и не заметил. Широко ступая в своем потертом егерском галифе, глазами все пас начальство, и в руке его было — Ольга глазам не поверила — охотничье ружье. Что это? Кто ему позволил?
Ольгин шеф в ответ на ее осуждающий взгляд объяснил с кривой усмешкой:
— На косе, кроме полезной живности, как известно, водятся и хищники…
Егерь рысцой поспешил к старшому.
— Виктор Павлович! А ну-ка дуплетом… Как тогда, на Байрачном!.. Дуплетиком!.. Вы же умеете, как никто! — И в голосе егеря вдруг появился такой мед, такое холопское подобострастие, что Ольге стало мучительно стыдно за него — стыдно, унизительно и тяжко.
Ружье было передано Танцюре. Тот взял его, осмотрел с видом знатока. Потом вскинул глаза на раскрасневшуюся сердитую Ольгу, из них уже исчезла былая приветливость, они стали холодными, чужими. «Зачем здесь эта девица? — как бы спрашивал он присутствующих. — К чему нам ее придирчивый, осуждающий взгляд? Не интересуют меня ее достоинства, скорее раздражают. Я хочу видеть привычные, приемлемые для меня глаза вот этого парня, егеря, преданного и сметливого. Устраивает меня и угодливое поблескивание ваших очков, товарищ кандидат наук… И даже нейтральная веселость агронома вполне принимается… А вот она…»
Ничего и сказано не было, однако все почувствовали, что эта вчерашняя студентка здесь лишняя. Да и сама она это поняла. Осталась стоять на месте, не пошла с ними, когда они, обогнув забитый черной морской травой лиманчик, снова тяжело поплелись вдоль косы.
«Неужели раздастся выстрел? — мучилась Ольга, глядя им вслед. — Неужели будет спущен курок? Все зависит от этого: будет выстрел или нет?»
Вся коса словно насторожилась. Тишина стояла какая-то неспокойная, хрупкая. И светлая беспредельность казалась ломкой, как стекло… «Все, все зависит от этого, — не давала ей покоя мысль. — Может, даже само будущее и ценность твоих идеалов, и все эти дьявольские взрывы, ужасы, о которых теперь столько думают, пишут, говорят, — все какой-то тончайшей связью связано с его ружьем браконьера, с его курком, с тем, будет выстрел или нет?»
Возглавленная Танцюрой компания почти скрылась в овраге за кустарником, молодец-легень твой, отдаляясь, все время суетясь вокруг Танцюры, забыл даже оглянуться, пустынно стало на косе. Ольга медленно побрела домой. Ей почему-то все время вспоминалась фраза, брошенная Танцюрой за обедом: «Пошлите за ним мои колеса…» То есть машину пошлите. И эти бессмысленные «колеса» теперь сверлили ей мозг: «Пошлите за ним мои колеса…»