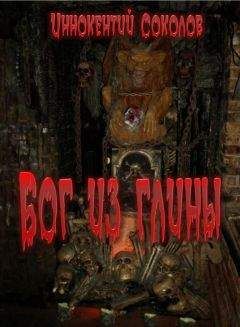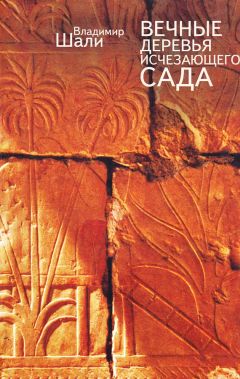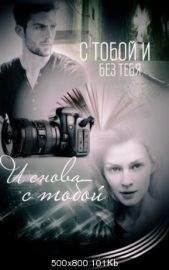Александр Серафимович - Том 3. Рассказы 1906–1910
С этих пор старик решил умереть. Решил так же просто, как прежде решал, что ворочается старина, что все новое, неуказанное пропадет, а возворотится, а выживет только старинное…
Старик сам отправился к священнику и в церковь, отговелся, причастился, пособоровался и стал ждать смерти. Она подходила медленно, тихо, без шума.
Он ослабел, уже не выходил из куреня. Доберется кое-как до крылечка и смотрит на пески, на тихо сверкающие заводи, на задумавшиеся на том берегу над водой вербы. Все перед глазами, все тот же простор, все так же горит на краю луга в фиолетовой дымке золотая звезда, все то же безбрежно синее небо, а – конец его царству: все это чужое, все это отходит к другим людям, к худу ли, к добру ли, но к другим.
И когда уже смерть глядела в окна, в двери и он уже не поднимался с кровати, пришла Марья и с искаженным, изуродованным судорогой лицом наклонилась над ним со сведенными в крючки пальцами.
– Сказывай, куды дел!.. – шипела она змеиным шепотом злобы и отчаяния. – Сказывай!..
А он глядел на нее белыми невидящими глазами, и что-то в них, в слепых, смеялось беззвучно, но лицо было бледно и неподвижно.
– У-у, изверг!.. Господи, всю жизнь…
И опять, как во все тяжелые минуты, на нее глянуло далекое родное небо, далекие полузабытые люди, говор, поля, – глянуло все невозвратным прошлым, и она с судорожным озлоблением кинулась и вцепилась в эту худую, жилистую вытянувшуюся шею, но она была мертвенно холодна, и не бились жилы…
Все перерыла Марья, но – ни золота, ни денег, ни драгоценностей. Разбила шкатулку, которую старик берег как зеницу ока, оттуда вывалились желтые звериные зубы да пыль иссохших трав.
В несказанном отчаянии она взламывала половицы, изрыла весь двор, – ничего. А он лежал длинный, сухой и мертво смеялся неподвижным восковым лицом.
Когда похоронили, она продала все на снос и ушла, а на следующий год, в разлив, мутный и сердитый Дон смыл остаток двора, и только сады, зеленея, смотрелись в воду…
Морской кот*
Синее небо без конца, синее море без конца.
Давно солнце выплыло из дальних вод и ослепительно играет в изменчивом, ласково-живом зеркале.
Давно улеглось волнение, еле шевелится ленивая синь дремотного моря, а чудовищный, иссера-грязный броненосец огромно, тяжко и угрюмо качается на ходу.
Белая пена, торопливо заворачиваясь, рассыпаясь, шипя, бежит перед обшитым броней носом, моет, отставая, окованные бока, и далеко по смирившемуся морю, далеко тянется бурливый, клокочущий, выворачивающийся след от винтов.
А он качается, огромный, угрюмый, темно-грязный, весь из чудовищных плит, брусьев, балок, железа и стали, – качается и режет расступающуюся пену тяжким неудержимым ходом.
Трудно разыгравшемуся морю раскачать его, трудно даже тогда, когда громадой встанут потемневшие валы и пена злобы, белея, рушится с их омраченного чела, когда до самого края почернеет море, потемнеет небо и лишь белый траур чьей-то близкой гибели и смерти несется безумной полосой.
Всю ночь безумствует море, и только, когда обманчиво забрезжит утро, начинает постепенно качаться и серый гигант.
Тяжко, медленно уходят в крутящуюся водяную мглу омываемые бока, и уже обдают брызги смутно покачнувшиеся башни.
И, задержавшись в тяжелом раздумье, так же мерно, так же тяжко, так же медлительно начинают выбираться из воды отвесные металлически-гладкие стенки бортов его. Уже давно далеко вверх ушла палуба, а они все так же медлительно выбираются из водной пучины, все так же уходят вверх, – кажется, и конца не будет, и далеко внизу бессильно разбиваются шипящие валы.
Уляжется обессиленное, измучившееся море. Шелковистой, чуть приметной прозрачной рябью ляжет оно, голубое, до голубого неба, под горячим солнцем, и с униженной ласковостью, подобострастно зеленоватыми языками лижет грязно-серые бока, а он так же угрюмо, хмуро, не умеряя тяжелого хода, качается и много часов клюет необъятной железной тяжестью.
И не обращая внимания на веселую ласковость сияющего дня, грязнит черными клубами густо крутящегося дыма и светлое лицо моря, и светлое небо – густым дымом, который тяжело вываливается из черных труб и, отставая, на много верст ложится на море расплывающейся пеленой, траурно уходя за предел горизонта.
Вероятно оттого, что весь он из миллиона пудов железа, вся жизнь на этом мрачном колоссе с железной беспощадностью отлилась в раз установленные, нерушимые формы. Люди, – а их девятьсот человек, – сиротливо теряются здесь среди палуб, отделений, люков, пролетов, орудий, среди бесчисленных механизмов, машин.
Солнце, соленый ветер и вода отлили их лица, руки, плечи из темной бронзы, а железо, обнимающее со всех сторон, положило тяжкую печать молчания, и глаза их хмуры и насуплены.
Ловкие, сильные, богатыри, как на подбор, они проворно, быстро и ловко делают свое дело, которое никогда не переделать и которое изо дня в день одно и то же. Мытье палуб, чистка медных вещей, разборка и чистка орудий, учение, примерная наводка, учебная стрельба, обучение сигнализации, вахтенные часы, а там и звезды высыпали, на палубе выстраиваются в две шеренги:
– Шапки долой!
И несколько сот здоровых голосов стройно и сильно поют:
– От-те на-ш и-же е-си…
Но железо глотает слова, но уже за бортом лишь шипение и плеск разрезаемой волны; и ни одного слова не доходит до холодно мерцающих звезд. Как видение чудовищной силы, продолжает свой путь в ночном сумраке темный силуэт громады, и затерянные в утробе его люди спят крепким морским сном в узко-подвешенных койках.
А наутро опять сначала. Так дни, недели, месяцы, годы, точно по пустынным водам скитается, не находя приюта, неведомо-чудовищный призрак, где все железо, где отношения людские сочетаются железной дисциплиной, где на лицах людей железный налет неотвратимой, неизменяемой жизни, где люди бьются в усилиях, в непокладающем рук труде, неведомо для кого и зачем.
Как броненосец непроницаемыми переборками, так день и ночь жившие вместе на нем люди не знающей пощады дисциплиной, службой и всем укладом жизни делились на три непроницаемые отделения.
В первом был всего один человек – командир броненосца. Тщательно выбритый, с выхоленным сухим телом, умными, надменными глазами, он самым своим положением был осужден на величественное одиночество богдыхана. Людей, за редкими исключениями, он не видел, все время проводя в роскошно отделанных своих каютах.
Постепенно привык к своему одиночеству. В душе вытравились люди, их лица, их радости, горе, и он только знал, что в придачу к бесчисленному числу механизмов, которыми полон броненосец, принадлежат и девятьсот живых рычагов, нажимая которые, он играет чудовищем как хочет, и все это на его ответственности.
В другом отделении была небольшая кучка офицеров. Здесь слышались смех и шутка; тут были молодые и пожилые; тут говорили и о любви, мечтали, строили планы; когда собирались в кают-компании, слышался звук пианино, мягкий баритон. Тут, хотя и робко, пробивалась из железных объятий жизнь.
В третьем отделении была свыше восьмисотенная масса матросов. Они были, как один, и когда их выстраивали на палубе длинной шеренгой, нельзя было выделить ни одного: все одинаково широкоплечие, грудастые, бравые, с шапками набекрень, все одинаково обвеянные соленым ветром, все одинаково с темно-бронзовыми лицами. И у всех одинаково одни и те же слова: «так точно», «не могу знать», «слушаю», «есть»…
И хотя род службы у каждого специализировался, казалось, делали они одно и то же и одинаковым образом.
Грицко Підтынный был, как и все, – такой же крепкий, ловкий, сильный, бронзовый, такой же язык у него был: «так точно», «никак нет», и когда стоял в длинной шеренге, каждого можно было принять за него.
Но когда оставался один, видно было, что у него серые глаза, пробивающиеся юношеские усы, и в этих глазах – свои думы, свои радости и горе, свои воспоминания, обвеянные лаской и любовью.
Жил он, как все жили на железной громадине, сдавленный железными объятиями размеренной жизни. На судне был точен и аккуратен; когда съезжал на берег, беспросыпно напивался и ходил с другими к девицам в веселые дома.
Но когда оставался один, особенно в ночные часы на вахте, начиналось что-то совсем другое, над чем уже не имеют силы ни железный порядок, ни железная дисциплина, ни офицеры, ни сам командир.
Зорко смотрит он, привалившись на баке, на неуловимо бегущее навстречу из синего сумрака смутно волнующееся море. Сзади темнеет ходовой передний мостик, смутнеет вахтенный начальник и два сигнальщика. С боков отсвет зеленого и красного фонарей, и ровное, мерное, не то печальное, не то жесткое в своем равнодушии дыхание машины.
Рідный край! Но ведь когда он был дома, он не чувствовал его, как не чувствовал себя, свое здоровье, пальцы на ноге, пока не разрубил одного топором и долго лечил, а он долго болел.