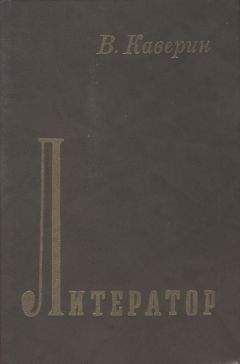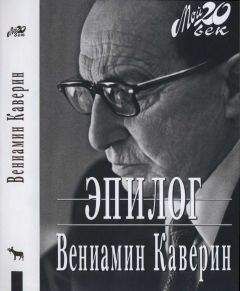Вениамин Каверин - Избранное
Он говорил вибрирующим от нежности голосом. Белый кончик носа блестел. От всей души он поблагодарил меня за то, что я сохранил ее письма.
— Вы получите от моей жены признательное послание, — сказал он.
Дорогая мебель была отправлена в Ригу, а дешевая сложена в темной комнате за кухней. Швиттау уехал, и жизнь в коммуне пошла своим чередом.
Я не получил признательного послания от супруги Швиттау Он не вернулся, и было решено извлечь из темной комнаты кухонный стол, в котором нуждалась коммуна.
Прочитав в словаре иностранных слов, что «тип» — это образец, а в литературе — обобщенный образ, управдом Виноградов лично взломал дверь. В комнате пахло пылью. Мебель была сложена до потолка. На полу белели маленькие мягкие горки бумаги. Это был архив Варвары Николаевны, съеденный мышами.
Среди сохранившихся листков я нашел ее письмо из Одессы: «Милая Леля, я счастлива. Не беспокойся, не думай обо мне. Как живется тебе на Песках со своим лапутянином? Бедная ты моя! Говорят, у вас голод, реквизируют комнаты. Поговори с Аносовым сошлись на меня…» И дальше: «Марсель Вержа будет весной в Петрограде. Ты все поймешь с первого слова. Расскажи ему обо мне, покажи мои письма…»
В старой, редкой книге «Памятник борцам революции» я нашел биографию Марселя Вержа. Это был рабочий-металлист, делегат Третьего конгресса Коминтерна. В конце сентября 1920 года, возвращаясь на родину через Норвегию, он утонул в Ледовитом океане.
Я собрал разрозненные листочки и вместе с фотографией, которую почему-то не тронули мыши, присоединил к письмам близких друзей.
Прошли десятилетия, и мой собственный «частный архив» погиб в годы ленинградской блокады. Но фотография вновь сохранилась. Я забываю о ней и вспоминаю. Когда я подолгу рассматриваю Варвару Николаевну, мне начинает казаться, что и она отвечает нежным, внимательным взглядом. Голова откинулась в плавном повороте; на губах, едва разбежавшись, остановилась улыбка.
1960
Семь пар нечистых
Поворот все вдруг.
Морская командаСбоев сломал нос, слетев с параллельных брусьев. Горбинка придавала его доброму лицу надменное и даже хищное выражение. Он поступил в Училище имени Фрунзе, с трудом вытянув на первый специальный курс, и привык к дисциплине, хотя должен был считать до пятидесяти, когда ему хотелось возразить преподавателю или «уволиться в окно», вместо того чтобы лечь спать в положенное время. С годами ему удалось довести счет до двадцати пяти. Еще и теперь в минуты раздражения он начинал считать, белея, с медленно бьющимся сердцем.
После трех лет службы на флоте все в нем еще бродило и кипело. Вдруг он начинал вдохновенно врать. Он был прост, прямодушен, а казался себе холодным, расчетливым, дальновидным.
В другое время он с легким сердцем встретил бы необходимость потерять два-три дня на скучную командировку. Но катер отходил в тот вечер, когда оперный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко показывал в Полярном премьеру. Московский театр на Северном флоте — само по себе это было событие! Сбоев собирался на спектакль с Катенькой Арсеньевой — это было событие в квадрате.
Года два-три тому назад он относился к женщинам пренебрежительно, как бы допуская неизбежность, без которой, к сожалению, нельзя обойтись. Теперь он любил их всех или почти всех и, сердясь на себя, думал о них постоянно. В Катеньку он влюбился на днях, и, хотя говорил с нею главным образом о знаменитом путешественнике и писателе Арсеньеве, который приходился ей дальним родственником, она в воображении давно принадлежала ему.
Он стоял на палубе, думая о ней, когда показался Мурманск. Высокая стенка шведского парохода медленно прошла по левому борту. Он взглянул на часы. Восемнадцать тридцать. В Полярном, в Доме флота, оркестр сыграл увертюру, занавес поднимается. Катенька сидит в первом ряду с Шуркой Барвенковым. Этот не станет тратить время на Арсеньева с его «Дерсу Узала»! От пробора до новых ботинок все продумано, приглажено, сияет. «И я знаю этот подлый маневр — весь вечер смотреть на девушку, отвернувшись от сцены».
В Управлении тыла Сбоев узнал, что он командируется на грузовой пароход «Онега» сопровождать оружие для строившегося в районе Западной Лицы аэродрома. Его команда — два матроса — уже ждала его на пятнадцатом причале, оружие грузилось, и дежурный командир посоветовал Сбоеву поужинать в «Арктике».
— Еще успеете, — любезно сказал он.
В ресторане не было мест, и Сбоев мрачно выпил у стойки рюмку коньяку, закусив ее маленьким дорогим бутербродом. Больше он не думал о Катеньке. Матросы встретили его на причале. Он явился на «Онегу» и представился капитану Миронову, грузному красному человеку в потрепанном кителе с несвежим подворотничком.
— Очень рад. Добро ваше погружено. Опаздываем.
— Почему?
— Пассажиры еще не прибыли, — лениво усмехнувшись, сказал капитан. Впрочем, вот они.
Сбоев взглянул вслед за ним в иллюминатор, из которого открывалась часть причала, свободная от груза. Там вдоль рельсов выстраивались какие-то плохо одетые люди. Охрана покрикивала на них. В грустном свете незаходящего солнца у них были бледные, усталые лица. Старший охранник в подвязанной куртке, со свистком и пистолетом за поясом скомандовал, и они быстро и, как показалось Сбоеву, ловко опустились на одно колено. Сторожевые собаки, большие овчарки, сидели смирно по сторонам колонны. Старший сосчитал людей, они встали и по мосткам, переброшенным с пирса, разговаривая и толкаясь, пошли на «Онегу».
2«Онега» был старый пароход, принадлежавший когда-то Соловецкому монастырю. У монастыря был сухой док в бухте Благополучия, рыболовецкие суда и три парохода — «Вера», «Надежда», «Любовь». Бывшая «Любовь», а ныне «Онега» была пароходом английской постройки 1910 года. Прежде на нем ходили монахи, и, хотя теперь уже трудно было поверить, что на мачтах парохода некогда сверкали кресты, в его крепеньком облике, как это ни странно, сохранилось нечто духовное. Он был флагманом монастырского, приносившего большие выгоды флота.
3Сбоев был вынужден пропустить спектакль в Полярном и сопровождать оружие по той же причине, которая привела на борт «Онеги» команду заключенных, отправлявшихся на строительство аэродрома.
Это произошло потому, что была уже создана и энергично действовала военно-морская группа «Норд» под командованием генерал-адмирала Бёма. Норвежцы, беженцы из Финмарка, рассказывали, что новые самолеты ежедневно прибывают на немецкие аэродромы, а корабли — в базы, находившиеся недалеко от границы. Наши береговые посты и корабли все чаще отмечали перископы неизвестных подводных лодок, и пущенное кем-то словечко «перископомания» уже ходило на Северном флоте.
Многие обо всем этом догадывались, некоторые знали. Догадывался Миронов, знал Сбоев. Но относились они к предстоящей и, по-видимому, неизбежной войне по-разному. Сбоев — с хладнокровной лихостью молодого человека, блестяще решившего на выпускных экзаменах тактическую задачу, с честолюбивым предчувствием перемен, которые, может быть, поставят его в один ряд с Нельсоном и Ушаковым. Ничего, кроме потерь, не ждал от войны капитан Миронов. Он вообще уже почти ничего не ждал. Более того — ему не мешало жить это полное отсутствие ожидания.
Были недели и даже месяцы, когда он не пил; он вспоминал о них с отвращением. За вином он оживлялся, становился очарователен, легок, любезен. Это не было поклонением божеству, нашептывающему темные мысли. Вино было для него принадлежностью спокойствия, веселого настроения, счастья. Он удобно устраивался за столом, смеялся, вкусно рассказывал. И все вокруг становилось неторопливым и вкусным.
Война угрожала этим любым часам за столом. Конечно, и на войне можно было пить, а иногда даже необходимо. Но это было уже не вино, а лекарство.
Он понимал, что его жизнь катится вниз, и старался, более или менее успешно, не думать об этом. Она долго шла вверх — от кока на парусном судне «Серафина» до капитана дальнего плавания, побывавшего во всех цветных морях: Черном, Желтом, Красном и Белом. По-видимому, это был апогей, которого он не заметил. Теперь жизнь двинулась в обратном направлении и хотя еще не вернула его в камбуз, но уже привела на эту «божественную» «Онегу».
Он был слегка навеселе, когда явился Сбоев, и, хотя время было уже позднее, приказал накрыть в «трапезной» — так он называл салон. Сбоев отказался, попросив лишь накормить матросов. Он не думал обидеть Миронова, хотя этот моряк с выпирающим под кителем животом не понравился ему с первого взгляда. Но, не желая, он как раз обидел его, и не только потому, что отказался сухо. Миронов на «Онеге» чувствовал себя хозяином дома, и просьба о матросах была, с его точки зрения, бестактностью.