Николай Сухов - Казачка
— Пропал! — гавкнул Фирсов, как с цепи сорвался. — Вон он, твой пропащий! Во-он, правее конников… С ихним заглавным стоит, с начальником, — и, глядя через кипевшую и на весь хутор гомонившую толпу, указал угластым обрубком руки, ровно бы и в самом деле старик Парамонов мог, как и он, великан Фирсов, увидеть Федора через головы людей.
Матвей Семенович намотал на растрескавшийся палец прядь бороды и гордо отвернулся: явная неприязнь Фирсова его задела за живое. Он отделился от него, ничего больше не сказав, и, обходя живую стену, заколесил к поповскому, напоминавшему гребень, забору: подле него, закусывая на привале, балагуря с подростками и молодыми казачками, стояли спешившиеся конники.
В это время один из приезжих — человек в поре и по виду бедовый, опоясанный поверх простой армейской шинели боевыми, крест-накрест, ремнями — вскочил на принесенную табуретку, обвел собравшихся веселым взглядом и, подняв на мгновение согнутую в локте руку, как бы призывая к вниманию, крикнул в наступившей тишине сильным, уверенным, чуть надорванным голосом:
— Товарищи станичники! Казаки и казачки! Труженики!..
Федор, разговаривая с командиром отряда, стоял к плацу спиной и не заметил, как подошел отец. Матвей Семенович осмотрел сына, его смятую и выпачканную то ли какой-то краской, то ли дегтем поддевку, переступил с ноги на ногу: прерывать разговор было неудобно, да, собственно, и не к чему. И он, ссутулившись, стал одним ухом слушать агитатора, другим — командира отряда, наружностью из тех людей, о которых говорят: и скроен ладно, и сшит крепко. Все на нем было подтянуто и подогнано.
— …Да нет, округ про вас знает, Нестеров рассказывал. И Селиванов именно вас, сочувствующего партии большевиков, именно тебя выдвигает, — говорил он Федору, называя его то на «вы», то на «ты», передавая ему какие-то бумажки и свернутые небольшого формата газеты. — Потом ознакомишься. А военно-революционные комитеты…
Федор, пряча в карман бумажки, что-то сказал, но Матвей Семенович не расслышал: разноликая толпа вдруг заколыхалась и одобрительно загомонила. Из слитного пестрого гула вырвались отдельные восхищенные возгласы: «Мать честная!», «Вот это — да!», «Где уж нам дожить до этого!..» Выступавший, разгорячась, посверкивая большими круглыми глазами, убежденно рисовал близкую привольную свободную жизнь, равенство и братство, когда на шее у трудового люда уже не будут сидеть всякие кровососы — помещики и фабриканты, всякие белоручки, прислужники буржуазии, и когда «гидра контрреволюции», как выступавший выразился, будет раздавлена.
— Я вас, товарищ Парамонов, не задерживаю, поезжайте, — сказал командир несколько извиняющимся тоном, — а то ведь время идет. Она так и просила, ваша жена, передать: будет в каком-нибудь крайнем дворе. А насчет работы… советую не дожидаться, когда что-то пришлют из округа. Видите, как оно… Сами почаще наведывайтесь. Ну, пожелаю!.. — и подал смуглую обветренную, пропахшую ружейным маслом руку.
Матвей Семенович приблизился к Федору вплотную, вытянулся за его спиной на цыпочках, пытаясь дотянуться губами к его уху, что-то шепнул. Командир услыхал, и на его подбородке, умышленно, видно, не бритом, зарозовел при улыбке свежий, еще не успевший сгладиться шрам.
— Спасибо, папаша, благодарю. С удовольствием бы, но… Мы очень торопимся. Может, доведется потом когда-нибудь. А сейчас какие уж тут, папаша, чаи!
Федор попрощался с командиром и подошел с отцом к толпившимся хуторянам, большинство из которых, не сводя глаз с возбужденного агитатора, жадно ловили слова, впитывали новую, еще не слыханную ими правду. Парамоновы коротко поговорили между собой. Надо было где-то раздобыть лошадь. Решили попросить у Федюнина, и старик тут же, не дожидаясь конца митинга, отправился домой — налаживать в дорогу тарантас.
«Какой славный человек! И молодой еще, а смекалистый, — размашисто, не по-стариковски вышагивая, думал Матвей Семенович о командире отряда. — Вразумило же его все ж таки поспешить к нам в хутор, послушался Надю».
А произошло все это так.
В округе за последние дни все чаще стали появляться из дальних хуторов гонцы с жалобами на кадетов. Зимой станичники спорили о власти, устраивали словесные схватки, но как только наступила весна — время дележки земли, — споры пошли уже по-иному: заговорили колья и винтовки. Гонцов больше всего было из-под тех станиц — Зотовской, Алексеевской, — где обосновался Дудаков. Ревком выделил из гарнизона отряд: пройтись по тем удаленным пунктам и поддержать на местах советскую власть.
Вчера, за несколько часов до выступления отряда, прискакал новый гонец, Блошкин, и сообщил про Федора Парамонова. Тогда ревком усилил выделенную для рейда конницу и разделил ее на два отряда. Одному отряду, более крепкому, приказал пройтись по ранее намеченному маршруту, вниз по Хопру, другому — вверх по Бузулуку.
Ночью конники выехали из Урюпинской, и поутру тот отряд, что направлялся в верховья Бузулука, был в хуторе Альсяпинском — в ближайших селах он не задерживался, незачем было. Здесь, в Альсяпинском, отряд повстречал Надю, тащившую на поводу раненого коня. Из Надиного рассказа командир понял, что события в Платовском острее, чем округу о них было известно, и решил, не меняя общей кривой рейда, пока оставить в стороне хутора Филоновской и Преображенской станиц и начать с того пункта, которым предполагалось кончить, — повел отряд прямо в Платовский.
Матвей Семенович все еще хлопотал над тарантасом — подмазывал его, скреплял рваные тяжи, а Федор, проводив отряд, уже привел лошадь. Умылся, переоделся, наскоро, почти на ходу пообедал и захватил с собой для Нади харчей.
Старик распахнул ворота и, ревниво прикидывая на взгляд прочность упряжки, напутствовал Федора:
— С коновалом ихним не торгуйся. Пускай берет цену, леший с ним. Лечит только пускай как следует. А то ведь он, этот Милушка…
— Там, с горы, видней будет, — сказал Федор, усаживаясь в тарантасе, и, выровняв, натянув вожжи, поднял кнут.
* * *Вернулись из Альсяпинского Федор и Надя только на следующий день: коновал как раз был в отлучке, и пришлось его подождать.
Отводя лошадь, Федор столкнулся в улице с атаманом. Тот шел навстречу, как ощипанный, и нес насеку. Но нес ее не так, как бывало, — торжественно, впереди себя, а под мышкой, как дубину. Он шагнул, уступая дорогу, на кучу золы и свободной рукой потрогал козырек фуражки.
— Доброго здоровья, Федор Матвеич! — сказал он как ни в чем не бывало, кося выцветшими, упрятанными за нависшей сединой глазами. — А я это к тебе было… от Федюнина. К тебе он посылает.
Федор остановился, не ответив на приветствие.
— Что ж, принимай, стало быть… — атаман качнул ношей, — И деньги хуторские и печать.
— Палки этой нам не нужно, — Федор кивком головы указал на насеку, — неси ее внучатам на игрушку, а деньги… Сейчас мы с Федюниным придем туда, в правление, пригласим стариков понятых и составим акт.
Атаман вздохнул.
— Так я это… Федор Матвеич, мне как? Подождать, стало быть?
— Да-да, сейчас я… Вот отведу лошадь, — сказал Федор. И подумал: «Какие вы шелковые стали, ласковые. Тише воды, ниже травы. «Федор Матвеич», «Федор Матвеич»… Забыл уже, что вчера выкамаривал! Да и теперь, коснись дело… Ну, да мы еще посмотрим!»
Часть пятая
I
Наде последние дни нездоровилось. Не то чтобы она болела, лежала в постели. Нет. Просто за последние дни она сильно и как-то сразу изменилась: увяла и потускнела. Ни легкости движений, ни того проворства в делах, чем всегда отличалась, не стало. Бывало, безо времени никогда не видели ее в кровати, а теперь нет-нет да и приляжет с виноватой улыбкой.
Час, когда семья Парамоновых прибавится, когда в мир придет еще одно человеческое существо, со своими правами на жизнь и счастье, как и всякий из людей, — час этот теперь был уже близок, и Надя ждала его с радостью.
Впрочем, иногда в душу к ней закрадывалась и тревога. Время-то стояло уж слишком неспокойное! Новая война — и с иноземцами опять и с кадетами — не только не затихала, но, по слухам, все больше разгоралась и все ближе подступала к хутору. Сейчас ли, в такое ли тревожное время, думалось иногда Наде, обзаводиться детишками! До того ли будет и Федору и ей самой! Что ожидает их там, в завтрашнем дне? Не готовит ли им этот завтрашний день еще какие-нибудь испытания?
Но такие мысли омрачали Надю изредка и ненадолго. В душе ее прочно жила уверенность, что все это со временем обойдется, войдет в свои берега, и все будет хорошо. Откуда эта уверенность взялась у нее, она не могла сказать. Но чувствовала именно так. А все Парамоновы, вся семья, не говоря уже о Федоре, утверждали ее в этих чувствах своим повседневным обращением, приветливым и сердечным.

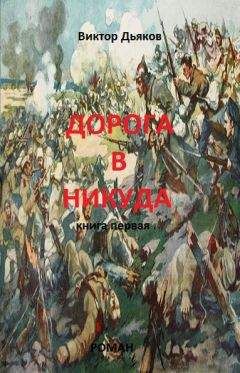

![Николай Сухов - Донская повесть. Наташина жалость [Повести]](/uploads/posts/books/133680/133680.jpg)
