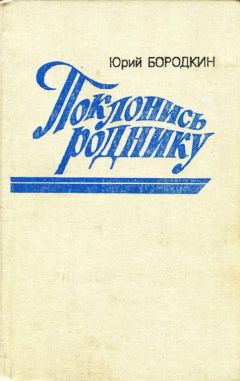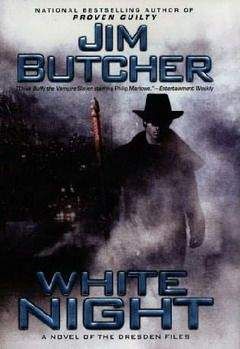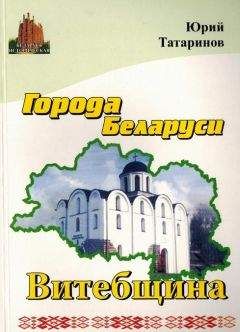Юрий Бородкин - Кологривский волок
Сергею с Татьяной тесно стало на деревенских тропинках, вышли на автодорогу, побродили по ней.
— Полуночники мы с тобой, — ласково сказала Татьяна.
— Сегодня так положено. В селе небось еще вовсю гуляют.
— Знаешь, я бы переехала в Ильинское жить. Что мы здесь? Как на хуторе.
— Зато летом приволье, речка почти под окнами.
— Еще я хотела тебе сказать, надоело мне сидеть на почте: уж сколько лет будто привязана к аппарату, дергаю туда-сюда штекеры.
— В колхоз ведь ты не пойдешь.
— Почему? Говорят, будет свой колхозный садик: я бы с удовольствием в нем поработала, люблю ребятишек. И Ванюшка был бы весь день при мне. — Темно-карие глаза Татьяны оживились, она нетерпеливо подергала Сергея за рукав, как будто тотчас хотела исполнить свое намерение.
— Тогда жди, когда построят садик.
— Долго, наверно, ждать-то?
— Узнаю. Это ты толково придумала: оба будем в колхозе работать, — одобрил Сергей.
Когда вернулись к крыльцу, луна то ли скрылась за облаком, то ли скатилась за лес, а над Заполицей заиграли причудливые световые столбы, как бы колеблемые ветром, переливчатые.
— Смотри! Кажется, северное сияние? — показала на них Татьяна.
— Да, все-таки мы — северяне.
И они долго еще стояли, любуясь бегущим по небу светом, воспринимая его как доброе знамение. Радостно и смятенно становилось на душе при виде столь загадочного явления. Уже начался новый год, с новыми заботами и надеждами; хотелось, чтоб многое сбылось.
— По-моему, оно где-то над Воркутой, — предположил Сергей.
— Ну что ты! Я считаю, в той стороне — Мурманск.
Поспорили. Велика страна, так велика, что города, находящиеся друг от друга более чем на тысячу километров, представляются расположенными почти на одном направлении…
Дети крепко спали: Ванюшка даже слюнку пустил на подушку, Павлик чему-то улыбался во сне, наверное, ему виделось что-нибудь дивное.
13
Это случилось в бане. Сергей любил попариться, Чтобы согнать с себя тракторную грязь, и Андрей. Александрович, глядя на сына, осмелился похлестаться веником. Сидел после этого на нижнем приступке полка весь малиновый, в крупных росинках пота, предсказывал перемену погоды, дескать, культя докладывает лучше всякого барометра, и вдруг начал оседать, клониться вбок: не подхвати его вовремя Сергей, грохнулся бы на пол.
— Ах ты, вражья сила! — тихо сказал он, стараясь нащупать осколок под сердцем, и попросил: — Воздуху не хватает, распахни дверь.
Сергей надернул прилипавшие к мокрому телу штаны и валенки, прямо наголо — фуфайку и, оставив дверь открытой, побежал домой за санками. Завернули отца в одеяло и тулуп, так нагишом и привезли.
По пути в баню зашла теща, поохала, но успокоила, предположив, что он угорел в первом жару. Но отец не встал даже пить чай.
Врач пообещал приехать на другой день после обеда. Андрей Александрович не дождался его. Не дождался и сына с работы. Сергей занимался перетяжкой подшипников, когда увидел появившуюся в мастерских Татьяну, увидел и по ее растерянному лицу сразу понял неладное. Она не осмелилась сказать ему, что умер отец, только поторопила домой, а сама пошла на почту отбивать телеграммы Алексею и Верушке…
Всю дорогу Сергей бежал, как будто еще мог поправить случившееся; бежалось тяжело, точно во сне, четыре километра от Ильинского показались слишком долгими. Влетел в избу и, не замечая ни заплаканной матери, ни тещи, оглушенно замер посреди передней. Отец лежал на двух сдвинутых лавках под образами, его уже обмыли и обрядили в новый костюм, который не пришлось, носить при жизни; большие мосластые руки навеки успокоенно скрестились на груди, прокуренные усы обникли.
Сергей надломленно опустился на колени, плечи: его содрогались. Побарывая удушливый спазм, он винился перед отцом:
— Папа! Папа! Ты слышишь меня?.. Как же это, а?.. Зачем я на работу-то ушел? Сидеть бы надо возле тебя… Ты прости! — И, уже не зная, с какой последней мольбой обратиться к нему, не стесняясь своей слабости, повторял в отчаянии: — Папа! Папа!..
Сбылось предсказание стариков, но кто бы мог подумать, что выбор падет на отца. Легко, не докучая никому, жил, легко и умер. Где взять ту живительную воду, которая могла бы воскресить его? Нет такого средства.
Верушка приехала по-студенчески скоро. Алексея ждали двое бесконечных суток — служба, и все это время, денно и нощно, в избе монотонно гудел голос Агафьи Голубихи, пришедшей читать псалтырь. Соорудив себе нечто вроде конторки из посылочного ящика, она читала стоя, показывала пример усердия перед богом и очень гордилась своей «ученостью» перед другими старухами. Ей старались не мешать, и, если кто-то неосторожно нарушал тишину, она строго взглядывала поверх очков, не переставая твердить наизусть выученное. Этот нудный и бесстрастный, как пламя лампадки, голос угнетал более всего.
Утром третьего дня Сергей с братом принесли гроб от Федора Тарантина: тот изготовил для себя, да, видно, поспешил. Голубиха, соблюдая обычай, распорядилась, чтобы нарубили веников: русский человек неразлучен с березой, сопровождает она его и в последний путь. Нет, не жестко, ему ложе из березовых веток, не жестка и подушка, набитая ими.
Пришли попрощаться с покойным все деревенские. Когда очередь дошла до Сергея, в нем снова ослабла самая стержневая пружина, глаза застлало туманом, не видя отца, припал к его холодному лбу и глухо выдавил из себя:
— Прощай, папа!
В пору было успокаивать голосивших мать и сестренку, а он не мог сладить с собой. Алексей держался молодцом, может быть, так и положено военному. Вдвоем, без посторонней помощи, несли братья свою скорбную ношу до тракторных саней, и долго, пока не выехали за деревню, ветер трепал волосы на их непокрытых головах.
Без музыки, без лишних слов похоронили старого солдата. На поминках, где за одним столом поместились все шумилинские жители, захмелевшие старики жалели его, корили неразборчивую смерть, дескать, и впрямь слепая, берет кого попадя, а не по старшинству. Снова вполне серьезно пытались угадать, чей теперь черед отправляться в невозвратимую дорогу, и, что удивляло Сергея, нисколько не страшились этого, как будто были убеждены в существовании другой жизни, не столь краткой.
Когда кончилось горькое застолье и Карпухины остались одни, чувствуя себя потерянно в родной избе, на глаза Сергею попалась отцовская ходуля, стоявшая в углу возле печки. Некоторое время с забывчивой рассеянностью смотрел на нее, как на странный предмет, непонятно как очутившийся здесь, совершенно ненужный теперь и неуместный, потому что липший раз напоминал об отце.
— Сжечь ее надо, чтобы глаза не мозолила, — с трудом, через комок, застрявший в горле, сказал он.
— Пусть хранится, — возразил Алексей.
— Ни к чему такая память.
— Смотри, тебе здесь жить. Я вот что думаю, братуха, — пустился в далекие рассуждения Алексей, — мать, пожалуй, заберу к себе. Чего ей одной-то зимовать? А ты с семьей перейдешь от тещи сюда, в свой дом. Как ты на это смотришь?
Сергей без одобрения относился к затее брата и, слушая его хмельные речи, понимал, что все это пустой разговор, никуда мать не поедет. Хоть и получил Алексей звание старшего лейтенанта, а еще молод, самонадеян. Достал из кармана кителя зажигалку, почиркал, добывая огонь.
— Ну, как ты думаешь? — повторил он свою навязчивую мысль и озабоченно поморщил лоб, навалившись на стол.
— Надо нам выпить, еще раз помянуть папу, а то ведь утром уедешь, — ответил Сергей.
Он сам уже был отцом двоих детей, но, как ему казалось, по-настоящему понял жизнь только сейчас.
14
После небывало снежной и метельной зимы — сугробы намело под застрехи сараев — пришла запоздалая весна. Снова открылось небо, разрумянились побледневшие от холодов зори, снова засверкал в полях отполированный солнцем и ветром наст, и стало вокруг просторно, гулко, ясно, так что уставали глаза, отвыкнув от такого обилия света. Днями сгоняло с крыш скупую еще капель и подтачивало сугробы у стен и завалинок, а потом приспело настоящее южное тепло, и заморозки ослабли, ночи сделались какие-то бархатистые, с колдовской синью в крупнозвездном небе, точно оно отволгло и звезды разбухли. Верные своей родине, появились на шумилинских березах скворцы, зажурчали над проталинами жаворонки, забормотали по опушкам лесов тетерева, смущая душу каким-то неясным позывом.
Паводок оказался дружным: в одну ночь с грохотом пронесло лед, и Песома неукротимо взыграла, захлестнув луга с остатками сена около стожаров. Напор воды был настолько велик, что там, где река скатывается по каменистым Портомоям в Шумилиху и с разбега упирается в песчаную осыпь, она пробила новое русло, спрямляя свой путь. Пока, в половодье, оставалась проточной и прежняя излука, но ей уже была уготована участь старицы.