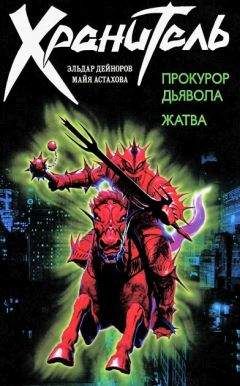Галина Николаева - Жатва
— Справишься? Осилишь? А не то, гляди, сниму со взысканием.
В голосе его звучали не то озорные, не то удалые ноты, знакомые Авдотье с молодости, всегда любимые ею и до сих пор волновавшие ее.
— Это жену-то снимешь со взысканием? — счастливым голосом спросила она. — Сынок за меня вступится.
— С жены больше спрос! А на сына не надейся! У нас с Кузьмой Васильевичем полная во всем согласованность… Сын-то с мамки еще крепче, чем муж с жены, спросит. Как, скажет, ты хозяйствовала в колхозе? Какую мне жизнь готовила?
— Ну что ж, и отвечу! Подниму сынка высоко на самолете, — гляди, мол, сыночек, на свое богатство…
— Как раз с самолета глядеть! — шутя согласился Василий и уже серьезнее добавил: — Был нынче во «Всходах» и в «Светлом пути». Договорился по пшенице комбайн пускать напрямик. Хороший там народ есть.
Он говорил о новом большом колхозе, а Авдотья ловила слова его и думала: «Вот оно то, чего ждала давно. Ждала с того самого вечера на поляне, когда прозвал меня Вася «Ващуркой». Было так, что и надежду потеряла дождаться, а оно пришло, и Вася мой — тот самый, кого угадала и полюбила с первого взгляда. Верной была девичья моя догадка. На четвертом десятке своих лет скажу, что пятнадцатилетней я не ошиблась в нем».
Луна плыла от окна к окну, тени на полу перемещались, а Василий И Авдотья все не могли заснуть.
— Ну, давай спать, Дуняшка, а то у нас с тобой столько разговору, что за сто лет не переговоришь! Завтра затемно вставать. Дождя нет, а барометр так и стоит на дождь, будь он неладен! Спи, любушка!
Авдотья проснулась ночью. К чувству радости, не покидавшему ее и во сне, примешалось что-то неразличимо тревожное.
«И что это? — думала она сквозь сон. — Ох, никак дождь!»—Она сразу открыла глаза. Ровный шум дождя стоял за окном. Небо, недавно ясное и звездное, было темным. Темно было и в комнате. Дождь шумел и шумел, не переставая, ровно, монотонно. Встревоженная им, она уже не могла заснуть и лежала тихо, боясь потревожить мужа.
«Уж как он не ко времени расшумелся! — думала она. — Всегда он, вреднючий, в самую уборку ударит!.. Этак и живешь: всю жизнь глаз с неба не сводишь. То: «Ох, дождь идет!», то: «Ох, дождя нет!» Хорошо, что Вася спит, не слышит. Надо бы повернуться, да жалко будить его. Проснется, услышит дождь, растревожится и не уснет больше. Рука-то как онемела! Высвободить бы ее! Да нет, нельзя. Потревожу его. Потерплю уж».
Рядом у самого уха раздался сдержанный вздох Василия. Через минуту раздался еще вздох. Очевидно, он тоже не спал и слушал дождь, но не шевелился, боясь разбудить ее.
— Вася! — осторожно позвала она.
— А?
— Ты чего развздыхался?
— Дождь. Осторожно, чтобы не помешать ребенку, он поднял руку и обнял плечи Авдотьи. Они лежали, вслушиваясь в шум дождя, думая об одном и том же.
— Сыплет, проклятый! Льну ничего не сделается, ас пшеницей беда! Ошибку я допустил, мне бы надо ту неделю в ночь работать, теперь бы не мучился. Сплю и вижу во сне: сыплется, стучит зерно о землю. Проснулся, а это дождь.
— Я думаю, он не надолго… В газете писали, что осень ожидается сухая.
Долго лежали они, тихо переговариваясь под шум дождя, по-особому близкие друг другу, счастливые, несмотря на свои тревоги.
Дождь прекратился еще с утра, и над влажной землей стоял вызолоченный сентябрьский день. То там, то здесь в густой зелени леса рдели гроздья рябинника. Онисквозили меж ветвями, манили взгляд, и казалось, весь лес прошит их сквозной рдяной нитью.
К вечеру Василий и Авдотья выехали на Алешин холм.
Благостной осенней тишиной веяло от убранных полей. Синее небо над пустынной стерней казалось особенно большим и высоким.
Вдалеке виднелись неубранные снопы — они стояли часто, подводы подъезжали за ними, а на самом далеком поле возле леса еще стояла несжатая нива и плыл по ней огненно-красный комбайн.
У Авдотьи сладко сжалось сердце. Она повернулась к Василию:
— И что это со мной делается по осени, сама не пойму! Весной и летом ничего, кроме фермы, и в ум нейдет, а как начнется жатва, так вынь да положь мне полюшко. Ну так и тянет, так и тннет на поле!
— Мне и самому завидно глядеть!
— Добрый урожай! — продолжала Авдотья. — Давно такого не видывали. По восемнадцать центнеров на круг возьмем, не меньше.
— Еще мало берем. Это разве урожай? — усмехнулся Василий своей быстрой и озорной усмешкой.
— Гляди-ка ты! Уже восемнадцать центнеров ему мало! Давно ли и восемь за много почитали!
— Какое же это «много»! Люди по тридцать берут, а мы вполовину меньше!
За последнее время в нем появилась небывалая веселая жадность.
— Словно зуд какой в мужика вселился! — говорила Прасковья. — Что бы ни делалось в колхозе, все ему мало! Лютует мужик!
По сравнению с той силой, с теми возможностями, которые Василий чувствовал, все сделанное казалось ему недопустимо маленьким, и он жил в непрерывном и нетерпеливом стремлении сделать больше.
Авдотья посмотрела на него и прикоснулась ладонью к его обтянутым смуглой кожей скулам.
— Я думала, мой муж толстеть начнет по урожайному году, а тебя еще сильнее пообтянуло. От лютой жадности это у тебя, право слово!
— Угу, — усмехнулся Василий. — Жадный я! Если втом году не соберем по двадцать пять центнеров, шапку об пол! Снимайте, мол, меня, добрые люди! Не мне у вас быть председателем!
— Шапку не шапку, — сказала Авдотья, — а что правда, то правда, Вася! На полдороге стоит наш колхоз. Первую половину пути прошли, за вторую взялись. Пора выходить в передовые!
— Да… Это, Дуняшка, потруднее шагнуть, чем из отстающих в хорошие! А оглянись-ка назад: все-таки немало уже и сделано.
— А как же не сделать? Разве мы одни делали? Куда ни обратишься, всюду подспорье! — Она заулыбалась и заговорила быстрее — Вася, мне все один случай вспоминается: как ездила я девчонкой на Соленое озеро. Плавать-то я не умела, испугалась, а тетка мне говорит: «Да ты не пугайся, ты руками, ногами пошевели, тогда тебе вода не даст потонуть, наверх вынесет. Ты только бревнышком, бревнышком не лежи!» И верно: пошевелилась я маленько — и вдруг вынесло меня озеро на поверхность, и поплыла я, Вася! И так мне удивительно это показалось! И как вздумаю я про наш колхоз, так все в памяти этот случай. А как заведу разговор где-нибудь в слабом колхозе, все мне хочется теткиными словами сказать: «Вы пошевелите малость руками да ногами, а там вас и наверх вынесет! Вы только бревнышками, бревнышками не лежите!»
Они ехали мимо тока, недалеко от картофельного поля… Картофель был посажен новым, гнездовым способом. Василию вспомнилась ночь на Фросином косогоре: «Тяпочками рыхлили… на тяпочку надеялись… — пренебрежительно подумал он. — То ли дело машинное рыхление!» С некоторой снисходительностью подумал он и о постройке тока: «Думал о нем, как о взаправдашней стройке! А и всех-то делов десяток бревен вывезти из леса! Вот с той весны и пойдет у нас настоящее строительство». Трудности прошлого теперь казались ему до смешного легки и преодолимы, как ученику старших классов до смешного легкими кажутся те задачи, над которыми он немало попотел несколько лет назад.
Вокруг шелестели овсы. Дальше прямоугольник льняного поля веселил глаза канареечным желто-зеленым цветом.
Подъезжая к холму, Авдотья думала:
«Без меня, небось, всю ночь прогуляли и спать не ложились гулены-то мои!»
Дорога круто повернула, и Алешин холм встал перед глазами во всей своей красоте.
Узкая лента черной лесной реки огибала его склоны. Тенистый, чуть тронутый осенней ржавчиной лес подступал с трех сторон, а с четвертой льнула ложбина, за которой зеленой волной поднимался второй холм.
На вершине стояли дом животноводов и другие постройки, а площадка холма была разделена загонами.
В три стороны расходились истоптанные скотом дороги. В загоне паслась пузатая Валентинина кобыленка, и Авдотья обрадовалась: значит, Валюшка здесь!
Дуся первой выбежала ей навстречу:
— Авдотья Тихоновна! Девчата, девчата, Тихоновна приехала!
Девчата выбежали из дома. Посыпались вопросы:
— Поздравить ли тебя, Дуняша?
— Приняли тебя?
— Привезла ли новый сепаратор?
— Как хлеб убирают?
— Видели маманю?
— Поздравьте меня, девушки, с большой радостью! — отвечала Дуня.
Когда иссякли поздравления, она стала отвечать на другие вопросы:
— Сепаратор привезла. В колхозе все хорошо: рожь всю заскирдовали, пшеницу нынче кончат убирать, овсы еще стоят и уж так тяжелы, так хороши, глаз бы не оторвала! Маманю твою видела. Вот тебе посылочка. Наказывала мне, чтоб я тебя по вечерам гулять не отпускала» окромя воскресенья.
Дуняшка и Катюшка, в трусиках, загорелые, поздоросевшие, бросились ей на шею. Маленького Кузьму забрала Ксюша, он улыбался, и к нему уже тянулись со всех сторон. Он был баловнем и любимцем всей бригады.