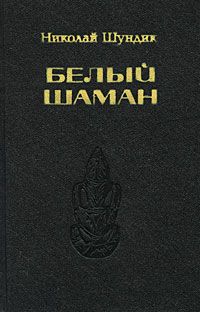Николай Шундик - Белый шаман
Кайти дотронулась до шершавого дерева, словно стараясь ощутить тепло рук тех незнакомых ей людей, которые делали для неё дом. Как жаль, что она не знает их и не может сшить им рукавицы. Ну ничего, она сошьёт рукавицы вот этим русским парням, которые устанавливают их дом. Наконец и она тоже будет жить в доме!
А пароход уходит всё дальше и дальше. Чувство беспричинной тоски заставляет Кайти провожать пароход печальным взглядом. Порой ей кажется, что она сама уплывает на пароходе, а дом, долгожданный дом, постепенно исчезает из виду. И Кайти хочется вскрикнуть, как это бывает в тревожном сне. И она говорит себе: только бы пожить в этом доме, хотя бы ещё немножко. Она так будет убирать его – просто всем на удивление. Странно, неужели когда-нибудь над этим потолком появится крыша, а над крышей труба, а над нею дым? Кайти затопит печь, и это будет дым её очага. Пойгин, возвращаясь с моря зимой, услышит запах дыма родного очага, и ему станет теплее. А потом он увидит свет в окнах. Вот эти три окна смотрят прямо на море. Неужели в них скоро появятся стёкла? Кайти будет стоять то у одного, то у другого, то у третьего окна, дожидаясь Пойгина с моря. И лампу в руки возьмёт, чтобы окна светились поярче.
Уплывает пароход всё дальше и дальше. Плывут мечты Кайти. Хорошо, если бы мечты могли стать облаком. Пусть проплыло бы это облако над самым пароходом, который привёз ей такой удивительный дом…
Когда всё было готово к вселению, Пойгин попросил Кайти переступить порог первой.
– Пусть первой войдёт дочь, – торжественно сказала Кайти.
Кэргына закричала от восторга, побежала, открыла двери в одну, в другую, в третью комнаты. Хорошо, что первым здесь поселился весёлый детский голос. А теперь пусть поселится в нём тихий-тихий шёпот Кайти. Не сделав от порога ещё и единственного шага, Кайти повернулась к мужу и сказала шёпотом:
– Мы будем жить здесь двадцать лет и ещё пять раз по двадцать… И пусть все болезни, которые селились в прежнем очаге, останутся там, не переступив вот эту черту.
Кайти показала на порог. Пойгин опустился на корточки, бережно провёл рукой по порогу, кивнул головой:
– Пусть будет так.
Но не осталась болезнь Кайти за порогом, пришла вместе с ней и в новый очаг. Кайти мыла, скребла, вытирала всё в доме, в самые тёмные углы заглядывала, выгоняла из нового очага собственную немочь, но тщетно. Однако Кайти не сдавалась. Она развешивала занавески, стелила меховые коврики, изготовленные собственными руками, вытирала до блеска стёкла всех ламп, чтобы в доме стало ещё светлей. Соседки с радостью и завистью переступали порог её очага, а когда уходили, клялись, что все точно так же сделают и в своих домах, но не всем это удавалось.
Да, прошло всего три года, как поселилась Кайти в этом доме. Как ей хочется встать и пройтись по всем углам и закоулкам, нигде не оставить ни пылинки. Но что поделаешь, немочь уложила её в постель. Порой ей кажется, что она смотрит на свой дом откуда-то со стороны, издалека, а Пойгин подходит с лампой к окнам и всё машет, машет ей рукой, к себе кличет…
Кайти дотянулась невесомой рукой до плеча Пойгина и тихо сказала:
– Я хочу послушать, о чём думает твой бубен.
Пойгин подошёл к шкафу, вытащил бубен. Потом сел на шкуру умки перед кроватью Кайти, долго смотрел на жену. Кайти терпеливо ждала. Да, она лечилась у врачей, но верила, глубоко верила, что и Пойгин спасал ей жизнь.
– Я вхожу в твою душу и разжигаю костёр из солнца… – повторял свои говорения Пойгин.
Пластинка из китового уса в его руках начинала осторожно стучать в бубен. Звук, тихий и древний, словно кто-то бесконечно добрый, доказав свою доброту ещё в незапамятные времена собственной жизнью, пробивался сквозь вечность, чтобы сотворить добро ив этот миг столь быстротечной в земном мире жизни. Кайти, закрыв глаза, внимала этому звуку всем существом, и ей казалось, что она чувствует запахи трав, которые отцвели, быть может, ещё во времена первого творения, что она ощущает на горячем лбу ветер, который начал свой дальний путь ещё в ту бесконечно давнюю пору. А голос бубна усиливался, говорения его становились всё быстрее. И Кайти мнилось, что всё доброе, что способно прийти ей на помощь, торопится, спешит, сбиваясь с ног, чтобы спасти её. И спасение – вот оно, уже совсем рядом. Спасение идёт отовсюду – из прошлого, из будущего, с неба, с моря, с речных долин, с горных вершин, из каждого угла этого светлого, чистого дома.
Нет, бубен Пойгина не разламывал её череп громоподобными звуками, как это происходит, когда камлает чёрный шаман. Этот бубен совсем другой, потому что он в руках белого шамана, отвергающего невнятные говорения, отвергающего исступлённый крик, потерю человеческого лика, когда глаза шамана становятся сплошными бельмами, а изо рта его течёт пена. Бубен Пойгина думал как человек, и думы его были и тихими, и громкими, и медленными, и быстрыми. Но это были думы, а не вопли и стенания, это были думы, внушающие надежду на лучший исход, надежду, идущую от самого светлого, ничем не истребимого солнечного начала, – надо только верить, верить, очень верить в его всемогущество.
Так Пойгин лечил Кайти, готовый с каждым ударом в бубен, с каждым словом выстраданных, найденных где-то в самой глубине души говорений переселить в неё каплю за каплей всю свою жизненную силу, только бы жила она. Как знать, на сколько он продлил её жизнь, но, наверное, всё-таки продлил…
Однако не вечна жизнь человека. С этим трудно, страшно смириться, если думать о жизни такого близкого человека, каким была Кайти для Пойгина. Даже если верить, что она может вернуться к живым в образе другого человека, – всё равно немыслимо представить, что Кайти не будет с ним рядом.
Но её не стало…
Кайти умерла в пору, когда солнце уже надолго покидало землю. То была осень. Птицы, обновившие свои крылья и вырастившие птенцов, собирались в стаи и покидали север. Грустная, грустная, бесконечно грустная пора. Пойгин смотрел на неподвижное лицо Кайти, слушал, как оплакивают покойницу женщины, и думал, стоит ли ему жить дальше… Внешне он был спокоен, неправдоподобно спокоен, но внутри у него всё готово было прийти в движение, подобно горному обвалу… Если сделать какой-то один неосторожный жест, сказать одно лишнее слово – начнётся обвал, и тогда поднимется даже покойница, чтобы умереть во второй раз… Надо сдержаться. Надо осторожно пройти по самому краю пропасти, не вызвав горного обвала. Надо найти в себе силы, чтобы похоронить Кайти, а там пусть будет как будет…
Все в Тынупе гадали, как Пойгин похоронит жену. И когда он сказал, что похоронит её по-чукотски, на самой высокой горе, на какую только сможет подняться, никто не посмел ему возразить. Даже Ятчоль, приготовившийся было написать очередное письмо, разоблачающее шамана Пойгина, посидел, посидел над чистым листиком бумаги, потом аккуратно сложил его вчетверо, порвал на мелкие куски и пустил по ветру в глубокой скорбной задумчивости; смерть Кайти и в его душе отозвалась острой человеческой болью. Кайти была для него непонятной и недоступной женщиной, как самая далёкая загадочная звезда; и то, что звезда потухла, – с этим немыслимо было смириться…
Тундра была ещё бесснежной, хотя облака уже дышали грядущим снегом. Пойгин впрягся в нарту, на которой лежала Кайти, и повёз по голой земле, никому не разрешая помогать себе. Только Кэргына порой дотрагивалась до потяга, глядя в сгорбленную спину отца с жалостью и тревогой за него.
У подножия горы Пойгин остановился, вытер пот на бескровном лбу, сказал, едва раздвигая запекшиесл губы:
– Теперь все возвращайтесь домой. В горы я уйду только с Кайти… И ты, Кэргына, иди, иди домой… Хорошие люди тебя успокоят. Я к вечеру вернусь.
Долго и упорно поднимался Пойгин в гору, втаскивая всё выше и выше нарту с покойницей. Порой останавливался у молчаливых великанов.
– Вот так, хороню жену, – говорил он им вполголоса. – Коротка жизнь человека. У вас жизнь вечная, а у нас коротка… Вот думаю… стала бы Кайти одним из молчаливых великанов – тогда и я застыл бы рядом. Смотрели бы мы друг на друга, и было бы нам хорошо… Хоть бы уж это, если теперь её нет совсем…
И опять поднимался Пойгин в гору, волоча нарту между скал, скрежетали по камням её полозья.
Положил Пойгин тело Кайти на каменное ложе высоко-высоко, где летают только птицы. Именно птицам он хотел отдать её тело – существам, знающим, что такое небо и солнце. По одну сторону гребня прибрежного хребта, где он выбрал похоронное ложе для Кайти, была видна бескрайняя тундра, по другую – вечное море. Давно ли было, когда Кайти, живая и юная, вот так же оказалась с ним один на один перед тундрой и морем? Давно ли им показалось в один бесконечно счастливый миг, что именно от них зачалось в земном мире всё живое? И вот теперь спит Кайти на каменном ложе и, кажется, внемлет отдалённому шуму моря, внемлет голосу вечности. Как же вышло, что её век оказался таким коротким? Спит Кайти и будто чему-то улыбается. Прощально и даже виновато улыбается… Почему виновато?! Перед кем её вина?! Это перед ней есть, есть виноватые! Вон там, в стороне праворучного рассвета, находится перевал, где прогремели выстрелы Аляека. Страшным оказался укус, обессиливший Кайти, укус росомахи с ликом Аляека. Вот кто виноват, вот кто Скверный! И Пойгин завтра же выйдет на «тропу волнения», чтобы наказать Скверного. Пусть Аляека давно уже нет, но Пойгин всё равно ещё и ещё раз накажет его…