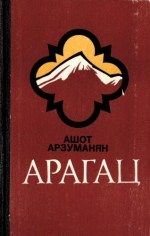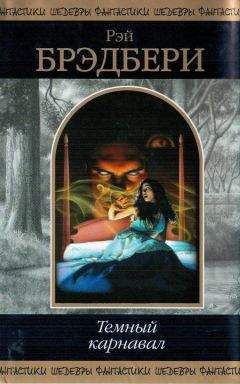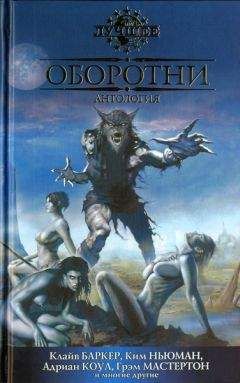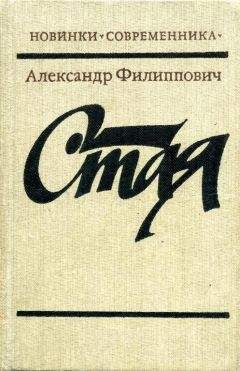Ихил Шрайбман - Далее...
Неужто ты, мой коллега, более прав?
Солнце взошло. Взошло без фокусов, обычно, как всегда. Я стоял среди молодежи и так же юно, так же жадно, как все, щурил глаза на солнце, чувствуя его первые лучи, подставляя щеки его нежному рассветному теплу.
Не берусь описать все в точности. Не хочу даже глубоко вдаваться в смысл ежедневного восхождения уймы людей, чтобы встретить рассвет. У меня для этого одно-единственное слово: жизнь.
Люди стали расходиться. Десятки юношей и девушек рассыпались по склонам Ай-Петри. Встречный ветер раздувал белые кофты, трепетал в красных галстуках, теребил зеленые рюкзаки за плечами. А я все думал о тебе. Далеко-далеко, за тем крохотным деревенским оконцем, пахли живые, растущие цветы.
Погоди-ка: тот красивый букет в автобусе разве пахнул?
Ты теперь, наверное, тоже встал. Быть может, сидишь уже за столом. Короткие рифмованные строки выскакивают из твоей машинки быстро, смело и весело. Ты сам себе выстукиваешь восход солнца покрасивей.
А есть лучи у твоего восхода?
Нет, друг мой, правы живые цветы.
Пер. М. Хазин.
ЗДЕСЬ
Слово среди многих других коротких слов. Один звучный слог. Всего каких-то пять буквочек.
Оно вздымает в душе твоей простор и тоску. Самые сильные и нежные привязанности. Радости и печали. Все годы и все мгновения твои.
Здесь. Отчий дом. Узел, в котором завязалась жизнь. Твоя жизнь.
Не каждому, наверно, суждено глубоко прочувствовать в себе это короткое волшебное слово. Быть пронизанным этим словом, слитым с ним. И тот, кому это не дано, уже от себя самого не убежит, самого себя не перепрыгнет. Он уже такого нигде и никогда не почувствует. Душа его всегда будет блуждать между небом и землей, между здесь и там. Как вырванное дерево, будет он вянуть, сохнуть, и своего Здесь уже никогда и нигде не найдет.
Эти мысли у Боруха Пинкуса не новые, наоборот, в последние пару лет часто думанные, хорошо обоснованные и накрепко укоренившиеся в нем, сегодня, в утренние часы, роились в его голове с особенно сильной болью. И с сильной болью, и с гневом.
Он натянул брюки, воткнул в шлепанцы босые ноги; стоял перед книжным шкафом в одной распахнутой рубахе. Он уже два дня не брился, не ходил в свою мастерскую, кисти в руки не брал. В полдвенадцатого отходит поезд. Бася встала сегодня рано, звякала на кухне посудой, убрала в передней, чистила на балконе щеткой пальто как ни в чем не бывало, как будто сегодня день как все дни. Перед уходом на работу она подошла к его постели, склонилась над ним, поцеловала и сказала: «Ну, одевайся, побрейся, не будь упрямым, это же брат». Поцеловала и тем не менее назвала упрямым. Как она не понимает, что эти дни для него — черные дни? Именно потому, что это брат. Ладно он, брат, Залмен, не хотел понять, не мог понять, не дал даже говорить. Любой, самый маленький разговор между ними сразу же приводил к ссоре. А каждую ссору Залмен заканчивал хватаясь за сердце, глотая таблетки. Залмен плохой? Нет. Глупый? Кажется, тоже нет. Он попал в эту несчастную круговерть и даже родному брату не дал себя вытащить. Но она, Бася? Ведь с нею, с женой, столько лет связан Борух Пинкус одной плотью, одной мыслью. Все это они за последнее время не один раз обговаривали. Его мысли это и ее мысли. Почему же она воспринимает это вот так-вот, легко и просто, как ни в чем не бывало? Она отпросится на час с работы и придет на вокзал. «Послушай меня, — сказала она, — побрейся и приходи тоже. Это же брат. И это же навсегда». Как не понимает она всю глубину трагедии? Нет. Он к поезду не пойдет. Именно потому, что это навсегда. И именно потому, что это брат.
Борух Пинкус стоял перед книжным шкафом и вместе с думами, что перелистывались в эти утренние часы в его голове, стал листать в руке книгу стихов, которую ночью все читал и читал. Одно другому не мешало. Наоборот: два измерения объединились, свернулись, приобрели глубину, взлетели вверх, увеличились. Он листал стихи за стихами, шептал тут строку, там строку. И хоть нужные ему строки были уже подчеркнуты в книге, и хоть он знал их уже наизусть, тем не менее, не спеша перелистывая, добрался он до них, приблизил книгу к глазам и, будто распевая псалмы, вычитал оттуда:
Из далей всех,
Что видел я без мер,
В сиянье солнечном увидел:
Это здесь
Мой дом большой —
СССР!
Вот так-вот, тоже не наизусть и тоже, приблизив книгу к глазам, вычитывая слово за словом и указывая на слова пальцем, чтобы Залмен, значит, видел черным по белому, прочел он эти строки Залмену. При их последней ссоре. Залмен сидел напротив него со сложенными на груди руками, обе ладони под мышками, скорчившийся, узкогрудый, несколько мгновений он молчал, а потом побелевшими губами произнес: «Здесь — не здесь, ерунда». Боруха аж подкинуло со стула: «Подожди, мы ведь, кажется, два брата, от одного отца. Почему же ты не помнишь, что говорил отец? Почему ты не помнишь радость отца, счастье отца? Что стало с тобой?» Золовка, Мальвина, подала Залмену стакан воды, назвала его, как всегда, Зямочка. Она, как всегда, сладенько выпевала свои речи, а Залмен, как всегда, этой сладости поддакивал, кивая головой. «Зямочка, что ты споришь с ним? Разве два брата не могут быть разными людьми? Ты же знаешь, что он витает всегда в небесах».
Борух уселся обратно на стул, собрался с духом и спокойнее, «приземленнее», начал тем не менее снова тыкать пальцем в тот же стих, но уже в другие четыре строчки. Более близкие, можно даже сказать, братские. Он говорил мягким голосом, с болью: «Послушай, Залмен. Ты ведь, кажется, не глупый. Я говорю с тобой как брат с братом. Я понимаю — воссоединять семьи. Ведь так называется это в мире, но семьи ведь дробятся и ломаются. Ты знаешь это так же хорошо, как и я. Дети, бывает, оставляют старых родителей, мужья — жен. Я не говорю уже — брат брата. Потом оказываются где-то под Бостоном, или в какой-нибудь Австралии, или еще черт знает где. Помнишь, Залмен, как мы во время войны искали друг друга? Как жались мы друг к другу, когда после войны нашлись, вернулись сюда. Помнишь, какая была радость, когда вдруг объявился Шмулик дяди Довида? Еще один Пинкус вместе с нами, в нашем обжитом поколениями Здесь. Ладно уж простой человек не понимает, не чувствует, что он игрушка в руках дьявола. Но ты, Залмен, ведь не простой человек. Ты же человек с образованием, человек, кажется, с головой на плечах. Помнишь, как наш отец, жестянщик, был на седьмом небе, когда ты закончил институт, получил это образование? Помнишь, как отец сиял, когда мы, все вместе, собирались у него на майские праздники или в октябрьские дни? Что за напасть на нашу семью? За какие грехи должны мы снова терять друг друга? Вот послушай, Залмен, эти строки нашего большого еврейского поэта. Прямо будто он сидел сейчас вот здесь, среди нас, как будто переболел нашей семейной болью. «Рассеялось опять, расплылось, разметалось, что уже вместе собралось…» Ай, Залмен, Залмен…»
Залмена побелевшие губы слились с бледным лицом, еле заметно подрагивали. Он вытащил ладони из-под мышек и без слов, пожимая плечами, развел руки. Мальвина пропела: «Зямочка, что он хочет от тебя? Что такое, ты не даешь ему разве быть с нами вместе?» А Залмен, молча поддакивая ей, кивал головой. Это снова подкинуло Боруха со стула. Все. Пропало. Брата он теряет. Это, наверно, и означали разведенные руки Залмена. Борух схватил книгу, сунул ее под мышку и направился к двери. Из боковой комнаты вышел Роберт, Залмена сын, племянник Боруха. Роберт в последнее время отпустил себе бородку. Редковато-черная заостренная бородка парнишки из ешибота — не хватает только, чтобы сверху, по обеим сторонам, вились пейсы, заложенные за уши. Роберт вытащил книгу из-под дядиной руки, полистал ее и рассмеялся: «Дядя, разве жаргон это язык? Это же исковерканный немецкий!» Сорвалось слово «ничтожество», слово «невежда». Потом в ответ: «Идите. Идите отсюда!»
Борух Пинкус сейчас, в утренние часы, шагал по комнате от стены к стене. Стены то раздвигались, исчезали — простор и тоска расстилались во всю свою длину и ширину; то снова вставали перед ним, жали и щемили — он вышагивал между ними боль и печаль о потерянном брате.
В полдвенадцатого поезд отходит.
Может, с Залменом надо было говорить иначе? Мягче. Терпеливее. Чаще. Убедительней. Может, он его, как лекарь больного, должен был деликатно выспросить, где болит? А может, наоборот, следовало накричать на него посильнее, как старший брат на младшего, который делает глупости, хотя прекрасно знает, что делает глупости? Может, надо было отхлестать его по щекам, чтобы он пришел в себя, как хлещут упавшего в обморок? Все это он, кажется, делал. Может, недостаточно? Все. Поздно. Сейчас он может его как брат брата только жалеть, только посочувствовать ему.
Ай, Залмен, Залмен…