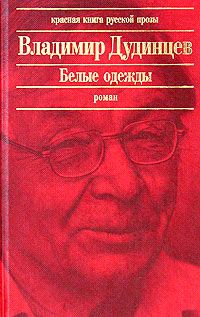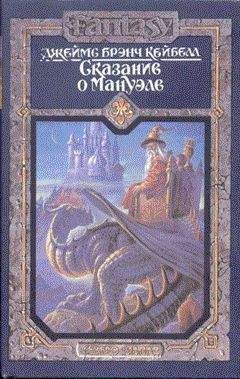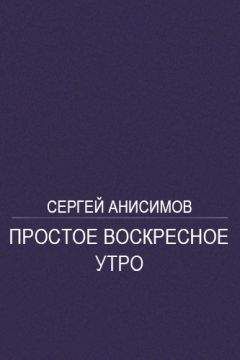Владимир Дудинцев - Белые одежды
— Все думают, что я комнатный, — заговорил тот грубым голосом. — Думают, что я интеллигент из Шпенглера обреченный на вымирание в силу своей утонченности и скрытой безнравственности. Морская свинка. давшая пищу для «Заката Европы». Нет, Федька. Я — нового типа интеллигент. Я даю пищу для «Пробуждения Европы», которое еще будет написано. Я надену телогрейку, возьму в руки лопату, матюкнусь… трехэтажно, и ты попробуй, меня узнай. Я могу и ломиком трахнуть. И пока сволочь будет хлопать глазами, не укладывя этого факта в своих мозгах, я еще добавлю. Давай, налью… Хор-рошая штука, когда долго ее не видишь… Когда с цепи сорвешься.
Федор Иванович, потянувшись к телятине, опомнился и, отдернув руку, замер.
— Ты что?
— Не могу. Они где-то едут…
— Я тоже подумал. Ты напрасно мне… отравляешь… Бери и ешь. Может, и переварить еще не успеем. Это же у нас с тобой прощальный бал, не заставляй меня пускаться в подробности. Подробности явятся в свое время. Нет не бойся, успеем. Но месяц ты продержаться обязан. Сверх этого пока ничего не скажу.
Они замолчали. Федор Иванович ткнул вилку в ломтик телятины и собрался есть. Академик остановил его и ложкой положил на телятину желе. Но и телятина и желе требовали сосредоточенности. А Федор Иванович был в другом месте. Внезапно ударившая мысль все время как бы держала его за воротник. «Они там едят баланду», — думал он, жуя сладковатую и в то же время солоноватую телятину, пронизанную остротой желе и тошнотворной сладостью предательства.
— Вот я тебе сказал это слово. Интеллигент нового типа, — академик положил на стол кулак, стал смотреть на него. — Вот эта штука, хоть она и маленькая. Не как у Варичева… Но она что-то может. Жизнь, практика знает много примеров. Был у меня знакомый, медик из энцефалитной экспедиции. Добряк с судимостью. Боролся в тайге с энцефалитным клещом. Пошел туда не ради денег. Я уважаю этих людей. Вот он вернулся в Москву. Смерть от энцефалита пронесло… А в Москве, когда ночью шел с вокзала с рюкзачишком, худенький очкарик… на улице к нему подошли трое. Дай, дед, закурить. Иван Афанасьевич буркнул: не курю. Один сделал ложный выпад и ударил ногой в живит. И принялись ногами убивать упавшего ученого. По голове! Трое! И этот, первый, занес свою ногу в зашнурован ном сапоге. Чтоб ударить всей подошвой в лицо. Но дни его были сочтены. Иван Афанасьевич застрелил его. У него был ракетный пистолет. В пах ему ракетой выстрелил. На суде в последнем слове он сказал: «В жизни я все уже сделал. Я готов даже умереть, но получаю тем самым право. Получаю право сделать то, что велит совесть». Он подошел к моей мысли, минуя Гамлета. Пусть, говорит, знают все подонки. Слишком много развелось под охраной закона. Пусть знают, среди жертв может оказаться и такой, как я. Мы освободимся, наконец, от нападающих по ночам.
Светозар Алексеевич хотел было взять еще телятины, но отмахнулся от искушения. Не до телятины было.
— Касьян тоже ночью нападает. Как эти. Создал сначала вокруг темную ночь и нападает. На одного вдесятером. Ведь какую дилемму он упорно ставит? Хочешь не хочешь, а решай. Он же прилип и диктует. Сдавай научные позиции. Я сдал — ему этого мало. Примыкай к моей стае, вместе будем рыскать ночью. Возвращайся к средним векам. Капитулируй на милость их светлости Сатаны. Или — это то, что мне остается — бери в руки его же оружие, от которого невыносимо воняет псиной. И падай, как будто убит. Притворись. И когда Рогатый, приученный к нашей искренности, подойдет, чтоб пописать на тебя, пнуть ногой, восторжествовать, — поражай его в пах. И если есть возможность повторить выпад — повтори.
— Ваш медик выстрелил в эту сволочь, которая его убивала… — сказал Федор Иванович. — Он выстрелил, хватило у него. А я спас своего Рогатого. Теперь он вторично в яму не полезет…
Потемнев и нахмурившись, он вдруг охватил лоб пятерней. Сидел некоторое время молча. Покачивался, силился вспомнить очень нужную вещь.
— Да! — вспомнил наконец. — Светозар Алексеевич! Вы сказали, что я оцарапан. Сказали, что видели оттиск. Там же стоит чужая фамилия! Почему это должно меня касаться?
— Феденька, фамилия там стоит не чужая, а твоя.
У меня даже оттиск этот сохранился…
Посошков поднялся было — искать оттиск. Но Федор Иванович вяло махнул рукой. Доказательства не требовались. Опять стал покачиваться, но уже по другой причине — по-настоящему почувствовал царапину.
— Д-да-а… — пробормотал, отдуваясь. — Не предвидели они… Теперь мой поезд побежит… Бы-ыстро побежит…
Они пригубили и как бы уснули, поникнув. При этом музыкальная Европа сразу выплыла из углов и охватила двоих тяжело размышляющих за столом русских зовя оставить все мысли и все воспоминания и погрузиться в молочную ванну наслаждений. Федор Иванович не слышал этого зова.
— Неделей раньше, неделей позже, — сказал он, морщась. — Все равно через полмесяца начали бы печатать. Кто же мог предвидеть…
Когда пауза миновала, Светозар Алексеевич, вынув изо рта косточку маслины и глядя на нее, сказал:
— Все хотел тебя, Федя, спросить. Ты носил, когда тебе было десять лет, вельветовые штанишки? Без карманов и с манжетами у колен?
— Мог бы носить, но так все сложилось, что пришлось таскать портки, как у взрослых. И с карманами.
— Так и знал. Но надо же, сына увела… — Посошков сказал эти слова без всякой связи с их беседой и, закрыв лицо пятерней, стал мять, гнуть между пальцами нос и усы — хотел этим насилием подавить другую боль. — Она ушла, Федя, от меня. Не вернется. А ведь я не тот, от кого она ушла. Я тот, к кому она когда-то прибежала. Близору-укая… Но она скоро поймет… Ты скажи когда-нибудь моему Андрюшке, что тятька у него был не только такой. Но и этакий тоже был…
И два собеседника, замолчав, отъединились друг от друга, улетели, каждый в свою страну. Федор Иванович рассеянно водил вилкой по салфетке. Посошков, забрав в пятерню рот и подбородок, свирепо глядел на полупустую красивую бутылку — может быть, он созерцал в это время нечто, о чем упорно не хотел распространяться — свое недалекое будущее.
— Если тебе доподлинно известно, что ты еще раз явишься на землю, чтобы доделать оставшиеся дела… — сказал он вдруг, не отрывая взгляда от бутылки, соскальзывая на свою тему, — тогда это вообще игрушки, можно и на крест. Это даже интересно. А вот если доподлинно известно, что это твое первое и последнее пребывание — тогда надо по возможности уходить от креста. Касьяну же это только и нужно — убрать тебя навсегда.
Он что-то обдумывал, на что-то решался, и для этого ему нужно было молчаливое присутствие собеседника. Но он не беседовал. Говорил только с самим собой. Мысль горела, шла в глубине, но иногда поднималась, и тогда он выбрасывал на поверхность какой-то яркий узел, то, что предназначалось для Федора Ивановича.
— Природа вовремя нас убирает, — заговорил он после длинной паузы. — Всех классиков — писателей и композиторов, всех Венеций и норвежских фиордов хватает на среднюю жизнь. Поют Фигаро — тебе уже скучно, а они — впервые слышащие и впервые поющие — в восторге. Если проследить — все, Федька, на этот срок жизни рассчитано. За этот же срок человек приобретает опыт. А когда поймет, что надо действовать, и главное, поймет, как действовать — тут он умирает! А если успевает сказать молодому: «Это невкусно, можешь не пробовать», — тот говорит: «Заткнись, предок!» Хочет дойти сам. То есть, хочет проделать уже сделанную работу, истратить свое время там, где оно уже истрачено другим. Природа не зря определила нам наш средний возраст — чтоб толклись на одном месте. Быстроты она не любит. Но некоторым поручает и скачок…
Он опять умолк, и опять из углов комнаты вышла тихая европейская музыка, заглушила мысли, остановила время…
— Наконец! — воскликнул вдруг Светозар Алексеевич. — Наконец я начинаю. Приступаю к настоящему делу. Которое даст плод. А десять лет жизни перед этим была подготовка. Как агава, зацветаю на три дня! А сколько еще возможностей, белых пятен! Ни в чем, Федя, нет и не будет последнего слова. Только у Касьяна уверенность в конечном знании. Любовь к тупику. Стать в конце коридора лицом к стене и гореть глазами…
— А кто найдет дверь в этой стене и откроет… — продолжил было Федор Иванович. Но академик не слышал.
— Что-то мы совсем не пьем, — перебил он. — Давай хряпнем по хорошей.
Он разлил в стеклянные пузыри весь благоухающий остаток. Перевернул бутылку, потряс ею и, подобрав губы, швырнул ее на пол. И этот жест был частью скрытой мысли, которая непрерывно горела в нем, изредка показываясь наружу. Молодецки «хряпнув», он посмотрел на Федора Ивановича. — Пошли теперь наверх. — И, поднимаясь с кресла, крикнул: — Маркеловна! Как там чаек? — прислушался, склонив голову набок, и определил: — Ушла…