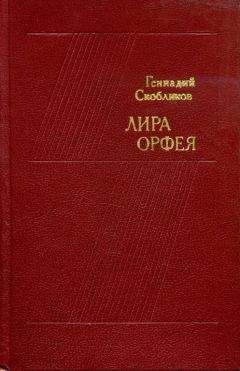Геннадий Скобликов - Старослободские повести
А там, когда они перевернулись и потом стояли и смеялись: все в снегу, от мороза румяные, счастливые, окруженные бабами и девками, — засмотрелась она что-то на куст калины. Он стоял (да и теперь, кажется, стоит) поодаль от речки, за камышами, от инея был весь пушистый — и красные кисти как огнем горели. Мишка перехватил ее взгляд, подмигнул — и чуть ли не по пояс в снегу прямо камышами полез к этому кусту. «Куда это ты, Миш, от молодой жены!» — смеялись бабы. Вернулся он, весь с головы до ног обсыпанный снегом, с целой охапкой веток с красными гроздьями — и, довольный собой, подал ей: «Бери, на свадьбе девок тестом кормить будем!» Она отломила одну кисточку, поднесла к глазам: красные мерзлые ягоды красиво просвечивались на солнце. Помнит, поднесла эту кисть ко рту и сорвала губами несколько ледяных ягод: твердые шарики быстро оттаяли, сделались мягкими, упругими, она, как любила, прижала языком один к нёбу, он лопнул — и рот обдало холодной горькой кислотой. Что ж — она была невестой, все смотрели на нее, на них с Мишкой — и чего б ей было и не порисоваться перед людьми! «Час назад расписали — а уже на кислое потянуло! Вот это я понимаю!» — съязвил Андрей... и в общем-то не зря съязвил: она уже первой своей, Клавой, тяжела была, хотя, кроме Мишки, она даже матери еще не говорила об этом. Все смеялись шутке Андрея, и они с Мишкой смеялись вместе со всеми и исподтишка переглядывались: догадываются люди или просто так смеются? А и догадывались, конечно: в деревне всегда всё обо всех знают...
...Сын Колюшка спросит вот иной раз ее, как жили они раньше, до войны. Он, Колюшка, родился как раз в сорок первом, в конце мая. Все на огородах работали, самая посадка шла, а она барыней почти весь май ходила... И что он, понятно, знает о той их жизни, об отце с дедом, да и о бабке? Ему и трех еще не было, как умерла Прасковья. Ему, Колюшке, та их довоенная жизнь — как за семью морями: был отец, были дед с бабкой, по рассказам ее, матери, да сестер, все это вроде и недавно было, — а ему это, конечно, все бог знает каким далеким кажется.
А как они жили? Он спросит — а ей вроде и рассказывать-то нечего. Жили как жили...
Мишка пришел к ним в дом — вроде и по-старому все осталось, а и все переменилось. Они, молодые, понятно, в горнице, а отец с матерью на кухню перешли, отец поставил себе кровать на подполе, около переборки, а мать на печке спать стала. Ну, а остальное как и раньше было. Утром все в колхоз на работу, к обеду сходились домой, вечером опять собирались все вместе. Потом дети пошли. Люльку почти не прятали на потолок, ее голубую кроватку опять собрали и поставили на старое место за лежанкой. Шумно стало, работы, забот прибавилось — известно дело, как оно с детьми. Хорошо — мать родная в доме, она, Варвара, была за Прасковьей, как у Христа за пазухой, тут уже ничего не скажешь. И девок, и его, Колюшку, вынянчила Прасковья и обстирывала и обшивала всех, и на чулки и ходоки на всю семью напрядет и свяжет их, и у печки управлялась. Конечно, и ей, Варваре, хватало работы: и в колхоз каждый день надо бежать, и дома: те же дети, огород — да мало ли чего, работы всегда по горло. Голые и без хлеба не сидели, но жить, чтоб сказать: легко жили, — тоже не скажешь. А в голодный тридцать третий, когда и так закрома у всех пустые были, да еще и из того, что было, отдавать пришлось (где-то, говорили те из района, что приезжали хлеб собирать, чуть ли не целыми деревнями умирают люди от голода), — тогда и им пришлось хватить лиха. Свекор, правда, помог; он-то, дед, похитрей был: что-ничто, а сумел припрятать. А так... и у них в деревне человек десять умерло с голоду, особенно перед самой жнитвой. А сколько опухало! Бывало, смотреть страшно было: лица и руки нальются водой, как склянки, детишки в голос голосят...
Ну, а прошел этот голодный год — и опять все наладилось. В колхозе — тогда не то, что потом, в войну и после войны, когда больше ста граммов на трудодень и не получали; тогда, до войны, в колхозах давали и по килограмму, и по полтора, а в другой раз и по два на трудодень выходило. У кого было кому работать, да если и семья на такая уж большая — у тех и до новины хлеба хватало. А у них: отец, мать, Мишка, она — четверо в колхозе работали, отец с Мишкой на штатной работе, трудодней у них много выходило — и хлеба неплохо получали, у них-то до новины он всегда был свой.
А работали, считай, так же, как и при единоличной жизни. Тракторов — сколько их было! И молотилка на весь колхоз одна. И больше вручную все: и пахали, и сеяли, и косили, и молотили. Бывало, настанет жнитва: мужики все с косами — чуть ли не с самой троицы настраивали крюки, а бабы с граблями — вязать. А потом скирдовать, молотить. Зима уже, а они все хлеб на базе на конной молотилке молотят. Лошадей в колхозе много было, на скирдовку по тридцать-сорок подвод выезжало: ребята за возчиков, девки подавальщицами — оно, что брехать, и интересно работалось. Свекор, бывало, начнет скирд вывершивать — глазам любо-дорого посмотреть: с навесом всегда делал скирды, и так уж вывершит, что никакой дождь его не прольет. Тогда старые люди к земле и хлебу еще по старинке относились и им, молодым, спуску не давали. Хотя, если говорить по правде, и старые тоже не так уж работали, как раньше, чуть свет ни один не бежал в поле: ждали, пока бригадир пройдет по деревне — кого куда пошлет, пока соберутся, пока дойдут — солнце-то вон уже где!.. Ну, а и не так, конечно, как теперь: трактористы пашут, комбайнеры убирают — а остальным, почитай, и дела никакого нет до этой земли!..
Она Колюшкой тяжелая была — четвертого ребенка ждали, в хате уже тесно было, и отец с Мишкой решили пристрой к хате делать. Зимой дубов в своих засеках напилили. Тогда оно еще так было: хоть засеки и отошли в лесничество — а по старинке бывшие свои засеки каждый еще считал своими, и попробуй, бывало, спилить дуб или нарубить орешника в чужих засеках — скандал будет. Навозили лесу, планировали срубить за лето три стенки пристроя. Да не дала война...
...Часто, бывало, думалось ей: не будь войны — и не изменилась бы так их жизнь. Остались бы живы отец с мужем, не умерла бы так быстро мать, жили бы они все вместе большой своей семьей — и было бы все у них, как и раньше. Выросли б дочери, повыходили б тут, у себя дома, замуж, стали б жить своими семьями. Все рядом, все вместе, помогали б один другому — чего еще надо!
А в другой раз подумает и скажет себе: нет, девка, не одна война виновата. Взять вот других: отцы живыми с войны вернулись — а стала она, жизнь у них, какой прежде была?..
Неуравновешенным стал народ. Молодые, как только кончат семилетку, сразу норовят уехать куда-нибудь. Ну, кто учиться дальше идет — тут другое дело. А остальные? На шахты поуезжали, на лесоразработки, на заводы поуходили — что, мед они там пьют? Да и пожилые: смотришь, то одна семья снялась с корнем, то другая. Сломают хату, построятся в пригороде — и там опять же идут в колхозе или в совхозе работать.
А и не осудишь людей. Говорится же: рыба ищет — где глубже, а человек — где лучше. А где оно лучше: там, где нас нет? Конечно, если б оно как раньше было, когда каждый своим хозяйством жил, тогда с корнем бы не снимались, жалко было б землю бросить. И молодые, наверное, больше б держались за отцовскую усадьбу, не отвыкали б от земли. А так... не за огород же этот держаться.
Да и не только земля. Как-то вроде и незаметно, а уже и тогда, до войны, становились другими люди. Та же работа: вроде и все то же осталось — а и не то, как раньше было. Легче стал народ ко всему, что не его, относиться. У себя дома, понятно, хороший хозяин каждой палке место найдет, все в дело пустит. А в колхозе, на общей работе, тот же хороший хозяин в другой раз махнет рукой: тут, дескать, не мое, на это колхозная власть есть, она пусть и доглядывает. Конечно, оно и за колхозное душа болит: ить все равно наше оно, общее, жалко, когда не по-хозяйски что делается или добро зазря пропадает. Ну, а и так нельзя, как было до сих пор: работают-то колхозники, а сколько выдать им на трудодень — решали в районе, а может, еще где выше; сам председатель никогда не мог сказать, по скольку дадут...
...Как жили? День ото дня — оно вроде и незаметно было, а все менялось. И весь уклад жизни постепенно менялся. Одно отпадало, другое приходило. Многое, конечно, лучше стало. Раньше тоже: с осени до весны сидят, бывало, бабы как проклятые: прядут, ткут, потом холсты эти белят... — да в этом замашном больше и ходили. По теперешним меркам — во сколько же труда обходился он, этот аршин холста! Коноплю посей, замашки выбери, расстели вылежаться на земле, потом свези в копань вымочить, опять суши их, мни на мялке, трепли, потом прясть их надо, ткать, холсты белить — вся зима, считай, на эту работу уходила. А с другой стороны, она, жизнь, этой вот самой работой и интересна была. Какие замашки уродятся, крепкое ли волокно, да вымочить бы их получше, потоньше напрясть, получше и к сроку соткать... И так же с любой работой. С утра до ночи все как в колесе — а все надо, ни без чего не обойдешься. Поэтому и ждали так праздников, что хоть на праздник-то работать не будешь.