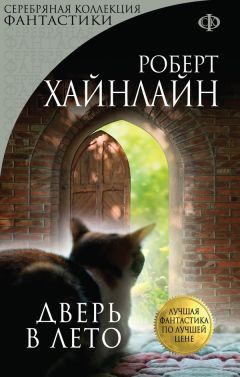Юрий Либединский - Зарево
Лена, Давид, Илико выжидательно посмотрели на него. А дядя Чабрец? Его уже не было за столом. Только что он сидел здесь, бережно трогая свои пышные усы, кажется лишь ими и занятый.
«Э, да о чем тут думать и чему удивляться! Мало ли может быть причин у такого дяди скрыться из виду сразу же после того, как он передал «приезжему родственнику» «Правду»?
— Здорово, вот здорово! — бормотал Константин, быстро пробегая страницу за страницей. — «Отделение либерализма от демократии», «Самое злободневное, конечно, — вторая балканская война, разгром Болгарии, унизительный для нее мир в Бухаресте…» Это Ильича статья, хотя и подписана инициалами, но голос его.
Константин чувствовал, что сидящие за столом поглядывают на него, стараясь это сделать незаметно, украдкой. Он упрямо тряхнул головой и, приподняв номер «Правды», сказал:
— «Правда» борется, голос Ленина мы слышим, партия жива.
— Да мы не унываем, — сказала Лена. — Вы, наверно, еще не слышали о Баку?
Но стачка шла не только в Баку. По номерам «Правды», которые всю ночь при колеблющемся свете лампадки читал Константин, видно было, что по всей России шли стачки. Вторая годовщина Ленского расстрела, празднование Первого мая, потом начались стачки протеста против суда над балтийскими моряками…
* * *В первую же встречу с Давидом Константин рассказал ему, что на его попечении находится слепой мальчик из Краснорецка. Мальчику нужно помочь добраться до дому.
Давид подумал и ответил, что есть один надежный человек, который с этим делом справится.
Глава вторая
Давидовская церковь в Тифлисе расположена высоко над городом. При ее постройке, как говорит легенда, по скалистым, почти отвесным склонам этой священной горы ни одно вьючное животное не могло подняться с кирпичами, и тогда основатели храма попросили верующих, идущих на богомолье, брать с собой по кирпичу, — так был построен монастырь.
Теперь к Давидовскому монастырю проложена дорога. Но в жаркий августовский день эта дорога довольно трудна, и Дареджана Георгиевна Елиадзе, вернувшись после богомолья домой, так и не дошла до узенькой тахты, где после смерти мужа проводила дни и ночи (супружеское ложе в алькове, торжественно и зловеще задернутом траурной шелковой занавесью, теперь было оставлено навеки). Присела она в кресло возле своего рабочего столика, у которого занималась рукоделием и расчетами по домашнему хозяйству. Немудрые эти исчисления производила она с помощью бисерных счетов (подарок отца при ее замужестве), ими любили играть дети. Присела, да так и заснула, без снов, крепко, как давно не спала. Но проснулась точно от испуга — будто ее внезапно толкнули. Мерный шум, постоянно доносившийся снизу, — а дом их находился на Давидовской, в одной из возвышенных частей города, — не привлекал ее внимания — так не слышат рокота прибоя люди, живущие возле моря. А в доме было тихо. Значит, младшей дочери, двенадцатилетней Кетеваны, нет дома, — она одна создавала больше шуму, чем трое детей вместе. Слабое движение — подобие улыбки тронуло бледные губы Дареджаны Георгиевны. Она придвинула свое, золотом по голубому, рукоделие, — самая яркая вещь из тех, что были в комнате, — и, откашлявшись, позвала:
— Саша, где ты?
— Я здесь, мама, сейчас приду к вам, — басовито отозвался из соседней комнаты старший сын.
Мать почти никогда не говорила по-русски, и сейчас она, позвав сына, сказала «Саша» мягко и протяжно, смягчая оба «а» так, как говорили в ее родной Кахетии. И Саша с благодарностью подумал, что даже в горе, после смерти мужа, мать не забывала его просьбы: не называть его Сандро. Он невзлюбил это свое имя с прошлой зимы, проведенной в Петербурге. Он учился на юридическом факультете Петербургского университета, и одна девица, очень ему не нравившаяся, но которой, видимо, нравился он, через все обширное помещение студенческой столовой, завидев его, всегда кричала: «Сандро, сюда, я вам место заняла», — и вся веселая, смешливая молодежь оборачивалась посмотреть, что это еще за Сандро. А он, тоненький, покрасневший от смущения, черноволосый юноша в студенческой куртке, взъерошенно и сердито стоял и не знал, где занять место.
Бесконечно далеко в прошлое ушло все это. И пусть бы мать называла его, как ей привычно…
У себя, в своей жаркой, выходившей прямо на улицу комнате, Саша носил сетку, охватывающую его сухощавое, крепкое тело. Но перед тем как пойти на зов матери, он надел белую, с прямым воротом, сшитую ему дома еще в прошлом году, перед отъездом в Петербург, рубашку, она и сейчас была как новенькая. В Петербурге Саша носил вошедшие тогда в моду среди студенчества серые рубашки с мягкими отложными воротничками. Застегивая мелкие пуговки на груди, он вошел в комнату матери и с наслаждением вдохнул прохладный воздух этой полутемной, выходившей на стеклянную галерею комнаты. Но и здесь, как и в других комнатах дома, сквозь задернутую занавесь весело сияли какие-то пестрые знойные краски: крыши и небо над ними, яркие куски ткани, которыми, так же как и у них, завешаны были от палящего солнца окна и стеклянные галереи. Все же уличный шум Тифлиса доходил сюда слабее, чем в его комнату.
Струя солнца, проникнув в щель между занавесью и косяком окна, сверху вниз проходила по лицу матери. Ее природная смуглота приобрела за последние недели оттенок лимонной желтизны. Обескровленные губы маленького нежного рта, синие тени под тускло-черными, потерявшими блеск глазами. Краски молодости были навеки смыты с лица, а ведь еще весной этого года она считалась в Тифлисе одной из самых красивых женщин. Дареджана Георгиевна вышивала для церкви что-то синее и золотое — дар, предназначенный для того, чтобы умилостивить загробный суд, перед которым уже предстал преподаватель географии и истории первой женской гимназии Елизбар Михайлович Елиадзе. Да, он, бедняжка, нуждался в снисхождении хотя бы потому, что, пользуясь доверенностью жены, размотал, проиграл в карты и прогулял с друзьями принадлежавшие ей пять тысяч — ее скромное приданое, лежавшее в банке и предназначенное на черный день. Этот день наступил — чего уж ждать чернее, — а денег нет. Правда, будет пенсия, но пока и ее нет. Вот и приходится госпоже Дареджане самой думать (а за нее всегда думал кто-либо: сначала отец, потом братья, потом муж) — думать о том, как прожить с четырьмя детьми, из которых младшему девять лет… В Петербурге, может, и не проживешь, но в Тифлисе прожить можно, пенсия шестьдесят рублей в месяц обеспечена. Из отцовского маленького имения братья и раньше привозили подарки, а теперь еще чаще будут привозить то баранью ногу, то индюка, то пару живых кур, то масла и сыру, то мешок лоби или кукурузы. Да если еще всерьез взяться за рукоделие, вспомнить навыки этого искусства, которым славилась она, когда училась в заведении святой Нины, прожить можно, и совсем не это удручает госпожу Дареджану. Беда в том, что старший сын, гордость семьи Александр, после смерти отца отказался от продолжения образования, потому что не может он оставить мать с двумя младшими сестрами и маленьким братцем в Тифлисе. Потому и в Петербург он не поедет, а поступит либо конторщиком в торговый дом Саникидзе, где он дает уроки и где к нему благоволит глава фирмы, либо в управление земледелия и землеустройства, где работает задушевный приятель и собутыльник покойного отца Михаил Андроникашвили. Но хотя готовность Александра к самопожертвованию смягчала вдовье горе госпожи Дареджаны, она все же не хотела принимать жертвы сына и старалась уговорить его не бросать университет.
— Я была у святого Давида, сынок, и, ты видишь, вернулась с бодростью в сердце, — звучал мягкий, в самую глубину души проникающий голос матери. — Небо послало мне поддержку. Много нас, безутешных женщин, собралось у чудотворной двери, и каждая со святой молитвой брала с земли камешек и прикладывала его к двери. Но только у двух камешки прилипли к двери. Одна, совсем простая женщина с Авлабара, жена мясника, хотела родить сына, а я… что ж я буду тебе рассказывать? Ты знаешь, что я тоже загадала на сына… — Бледные, немного будто припухшие и выдающиеся вперед губы ее снова тронула улыбка.
— Спасибо вам, мама, — сказал Саша и, наклонившись, поцеловал ее бледную руку.
Мать поцеловала крутые смоляные кудри сына.
Александр любил мать с тем оттенком рыцарства и обожания, с каким любят мать старшие или единственные сыновья. Он был счастлив, когда мог оказать ей какую-либо услугу. И даже сейчас, когда горе согнало краски с ее лица, она ему казалась красавицей… Но он был достаточно умен, чтобы по достоинству оценить душевные качества матери. Он знал, что она добра и в доброте своей разумна, что она, любя детей, умеет оказывать на них высокое нравственное влияние, поощряет в мальчиках смелость, чувство чести, трудолюбие, готовность прийти на помощь слабому и стремится передать девочкам все свои высокие достоинства жены и матери. Однако Александр видел, что при малом образовании мать не стремится его увеличивать, что она совершенно лишена интереса к жизни общественной и что у нее нет практического рассудка.