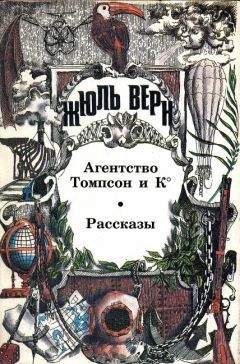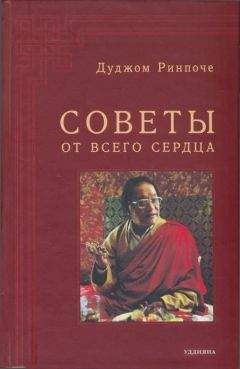Елизар Мальцев - От всего сердца
За распахнутыми окнами, в саду, где уже густились сумерки, взмыла другая песня:
Ну-ка, солнце, ярче брызни.
Золотыми лучами обжигай!
Старческие голоса окрепли:
Со работы ручки ноют.
Со гульбы ножки болят…
С тревожной поспешностью они как бы строили на пути новой песни запруду, но молодые голоса с беспечной удалью размыли ее непрочный строй, и песня хлестнула в промоины:
Напои нас всех отвагой,
А не в меру горячих успокой!
— Да разве их перешибешь! — Гордей расхохотался, похоже было, что он очень доволен тем, что молодые перепели стариков. — У них глотки луженые! Нам, Терентий Степанович, с ними не тягаться!
— В песнях, может, они и горазды, — сказал Терентий, поводя могучими плечами, — а в работе пока каш голос не последний.
Дрожь аккордов, взятых Григорием Черемисиным на баяне, будто всколыхнула горницу. С грохотом сдвинули столы, кто-то рассыпал от порога дробную чечетку, пол заходил ходуном, в круг, притопывая блестящими полусапожками, влетела Кланя Зимина. Одна рука ее лежала на бедре, в другой голубем порхал батистовый платок, подпрыгивала на ее лбу рыжая челка. Кланя все шибче и шибче носилась по кругу, задорно выкрикивая:
Иду бором-коридором,
Коридор качается…
Взвизгнули женщины: в круг, ухая, ворвался Силантий. Он прошелся небрежной, флотской развалкой, прищелкивая пальцами, бросая хлопотливые ладоши на зеркальные голенища сапог, потом свистнул и заходил вприсядку вокруг Клани, Они то сближались, то расходились, словно тянулись друг к другу два рыжих огня.
Держа Груню под руку, Родион стоял в жаркой, шумливой толпе гостей. Хмель приятно кружил его голову.
— Душно как! — тихим, истомленным голосом проговорила Груня.
Родион заторопился:
— Выйдем на улицу…
Прохлада вечера обласкала их. Шептались у ворот тополя, в темной листве перемигивались звезды.
— Посидим в саду. — Родион обнял робко дрогнувшие Грунины плечи. — Там теперь никого нет: Гриша баяном всех в дом утянул…
У садовой калитки они остановились, услышав напоенный тоской голос Матвея Русанова:
— Так как же, Фрося, а?.. Ведь скоро год, как я около тебя хожу… До каких пор ты такая дикая будешь?
— А тебе ручные больше по нраву? — В голосе Фроси была скорее мягкая раздумчивость, чем насмешка.
— Что мне другие — ты мне по нраву, — голос Матвея дрожал. — Давно бы ради детей женился, а как подумаю о тебе — места не нахожу… Запала ты мне в душу — не вытравишь…
Груня слушала, прижимаясь к Родиону: ей казалось невероятным, что в такой радостный день кто-то может страдать.
— Я знаю, ты боишься, что мои дети тебя свяжут, — помолчав, тихо и затаенно продолжал Русанов. — Но куда же их денешь, птенцов таких? Один я у них. А возиться с ними ты мало будешь: отец еще крепок, хочешь, старуху какую возьмем для присмотру… Согласись только!.. Самоё тебя буду, как дите, на руках носить!
Родион стиснул горячую Грунину руку. В темноте бормотала листва тополей, гомонил и трезвонил дом.
— Какое же твое последнее слово? — глухо спросил Русанов.
Не та обломалась сухая веточка, не то хрустнула пальцами Фрося.
— Я тебе так скажу, Матвей. — торопливо, славно задыхаясь на бегу, заговорила девушка. — Мне тебя, хочешь не хочешь, надо от сердца рвать — ты там крепкие ростки пустил… А нашей жизни с тобой впереди я не вижу… Ты только, не обижайся… — Она помолчала. — Может, я дура, что людей слушаю, но такую тяжесть я на себя не возьму. Шутка сказать: трое детишек! Нет, нет! Мало ли что ты сейчас поешь, а потом, может, и переменишься и свяжешь по рукам и ногам! А пока я вольная птица, куда хочу, туда и лечу… И какая я им мать буду, когда меня еще самое подурачиться с подружками тянет, поозорничать!.. Замуж выйдешь — по боку и комсомол, и клуб, и все…
— Вот глупая!.. — почти простонал Русанов. — Да кто тебе это сказал?
— Может, и глупая, но живу пока своим умом, — спокойно перебила Фрося. — Прости, если что не так сказала…
В доме на минуту оборвался топот и звон, и стало слышно, как тяжело дышит Матвей.
— Значит, все?
— Да… Видно, не судьба нам…
— Ну что ж, как знаешь… — протянул Русанов, сдерживая обиду, чтобы не обронить напоследок мужскую свою гордость. — Не такие, выходит, крепкие ростки, если ты их так легко с корнем рвешь… — Он помолчал, ожидая, что девушка скажет что-нибудь еще, но так как Фрося не отвечала, спросил с удивительной сдержанностью: — Домой сейчас?
— Нет, я еще погуляю… Если луна взойдет, может, поедем на лодках по озеру кататься…
— Так, — сказал Русанов. Он чиркнул спичкой, прикурил — в кустах вспыхнул трепещущий огонек и погас. — А то гляди: тебе ведь на край деревни шагать, я проводил бы…
— Не надо, Матвей… Иди один. Не надо.
Скрипнула под сапогами Русанова песчаная дорожка. Родион потянул Груню за руку, и они скрылись в глубине двора.
«Подойти бы к нему, — думала Груня, — сказать что-нибудь… Нельзя же так…» Но чем она могла утешить его?
Дверь из сеней распахнулась, в темноту двора хлынула светлая река, и люди, выходившие на улицу, казалось, пересекали ее вброд. Григорий шел впереди веселой, шумной ватаги девушек, тревожа лады баяна.
— На озеро отправились, — шепнул Родион, — а мы с тобой на холмы, а?
Груня прислушалась к смеху девушек за воротами, к журчащему ручью музыки.
— Не потеряли бы нас…
— Скажем мамане — и айда!
По крутой, обрывистой тропке, поддерживая друг друга, они поднимались на высокий, заросший травой холм. Осыпались под ногами камешки и с глухим шорохом катились вниз.
На вершине Родион и Груня остановились и долго смотрели на притихшую в распадке деревню. На темное взгорье, как на широкий стол, легла оранжевая краюха луны — и распадок налился желтоватым сумраком.
— Как тут тихо! — сказала Груня.
Каждый звук из деревни доносился гулко, словно из глубокого колодца. На озере смеялись девушки, бежала за кормой кишевшая лунными светляками дорожка, скрипели уключины, мягким картавым голосом пела Иринка, ей тихо вторили переборы баяна:
Прокати нас до речки, до реченьки.
Где шумят серебром тополя…
Родион расстелил на траве тужурку, и они сели с Груней, тесно прижавшись друг к другу.
— Мне даже как-то неловко, что мы такие счастливые, — сказала она.
— Это ты о Русанове?
— Да… Ведь вот как в жизни получается, и человека найдешь, полюбишь, и кажется, без него тебе жизни нет, а он от тебя сторонится… А у другого иначе: не ждет ничего, не ищет, все само собой приходит… В прошлом году а это время я и не знала, что ты на свете есть…
— А я разве знал?
Луна то скрывалась за облака, то выплывала, расплескивая по небу серебристую зыбь.
У озера, как огненный петух, затрепыхал крыльями костер, и Груня зашептала:
— Родя, смотри, смотри!.. Может, это один раз такая красота бывает!..
Проржал в ночном жеребенок, поникли крылья костра, растаяли всплески голосов, и распадок снова затянула стоялая вода тишины.
И вдруг, как брошенные в заводь камни, забулькали вдалеке копыта коня, летучей мышью мелькнул на дороге всадник.
Груня вздрогнула:
— Что это?
— Верно, нарочный из района, — сказал Родион. — Не тревожься, чего ты!
Он положил ей голову на колени, и она склонилась над ним, вдыхая медвяный запах трав, замирая, слушала, как стучат его сердце…
…А три дня спустя, вечером, спотыкаясь, ничего не видя перед собой, Груня шла за телегами, нагруженными солдатскими мешками. На белые облака, как сквозь марлю, сочилась кровь заката, небо багровело огненной разорванной раной. И на этом страшном, в кровавых натеках закате черными хлопьями сыпалось на дорогу воронье.
— Не плачь, родная моя, не плачь! — говорил, глотая слезы, Родион, хотя Груня шагала, сжав побелевшие губы. — Мы их скрутим!.. Вот увидишь!.. У-у, гады, погодите! — Глаза его темнели, он поднимал над головой сжатый кулак и грозил.
За деревней, где начинались поля, подводы остановились. Заголосили в голос женщины, темнее туч стояли мужчины, казалось, безучастные к ненасытным, торопливым рукам, обнимавшим их напоследок.
Тягучий женский плач коснулся сердца Груни, тупой болью разлился по всему телу. Она видела залитое слезами лицо Родиона, вслушивалась в его голос, но не понимала бормотанья мужа.
Он ушел за телегами, а она стояла и все не могла сообразить, куда это он оторвался от нее.
И вдруг будто кто толкнул ее в грудь — и Груня побежала. Она что-то еще должна сказать ему! Ведь она ничего не сказала! Простая, только теперь дошедшая до сознания мысль, что она, может быть, никогда уже не увидит Родиона, гнала Груню вперед.